[ ENGLISH ] [AUTO] [KOI-8R] [WINDOWS] [DOS]
[ISO-8859]

–†–Њ–Љ–∞–љ—Л
26 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1999 –≥–Њ–і–∞
–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А
–•–ї—Г–Љ–Њ–≤
–Ь–Р–°–Ґ–Х–† –Ф–Ђ–Ь–Э–Ђ–• –Ъ–Ю–Ы–Х–¶
(–Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В—Б–Ї–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞)
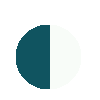
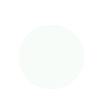
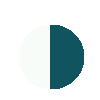
–Я–Ю–°–Ы–Х–Ф–Э–ѓ–ѓ –І–Х–Ґ–Т–Х–†–Ґ–ђ
(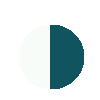 )
)

"–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О -
–Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞, –Є –і–Њ
—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Є –ґ–і–∞—В—М".
–Э–µ—В–Њ—З–Ї–Є–љ
64
–Х—Б—В—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –Ї—А—Г—З–Є, –Њ–±–ї–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—А–Њ—Б–ї—П–Љ–Є,
–µ—Б—В—М –Є –±–µ–ї–Њ—Б–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є, —Б–Є—П—О—Й–Є–µ –љ–∞–і –±—Л–≤—И–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–µ–Љ,
–µ—Б—В—М —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л–µ —А–µ—З–љ—Л–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л–Љ–Є –њ–ї—П–ґ–∞–Љ–Є, –≥–і–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ–∞—П –і–Њ
–Њ–Ї—В—П–±—А—П —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ–ї–µ—Й–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –µ—Б—В—М –Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ
—Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ - –Я–Њ–і–Њ–ї, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—А–Ї–∞, –С—Г—А—Б–∞; –µ—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Ы—Л—Б–∞—П
–≥–Њ—А–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г —Б—А—Л—В–∞—П, –∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–∞—П –њ–∞–љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–Є–ї—М–µ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Є –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Ї–∞ —Б –Ї—А—Л—В—Л–Љ —А—Л–љ–Ї–Њ–Љ, —Б
–Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–Њ–Љ "–Я–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞", —Б —Г–і–Њ–±–љ—Л–Љ, –ї—Г—З—И–Є–Љ –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є
—Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Є –±—Г–ї—М–≤–∞—А—Л, —Б–њ—Г—Б–Ї–Є, –≤–Ј–≤–Њ–Ј—Л, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Є –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї,
—И–Є—А–Њ–Ї–Є–є, –Ї–∞—И—В–∞–љ–Њ–≤—Л–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—П—А—Г—Б–љ—Л–є, - –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –≤—Б–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ
–ї—О–і—П–Љ –Љ–µ—Б—В–∞, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ–µ—В—Л–µ, –Њ—Б–Љ–µ—П–љ–љ—Л–µ –Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–µ. –Э–Њ –µ—Б—В—М –≤
—Н—В–Њ–Љ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≤ –±—Л–≤—И–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є
–њ–ї–Њ—Б–Ї–∞—П –ї–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ–љ–∞—П –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–∞, –љ–Є—З–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞–Ї
—Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–Љ –С—А–Њ–≤–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –ї–µ—Б–Њ–Љ, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –≤—А–Њ—Б—И–Є–Љ
–Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є –≤ –≤—Л—Б–Њ—Е—И–µ–µ –њ–µ—Б—З–∞–љ–Њ–µ —А—Г—Б–ї–Њ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –Т –ї–µ—Б—Г —Н—В–Њ–Љ
—З–∞—Б—В–Њ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –≥—Г–ї—П–ї –Ъ–Њ—Б—В—П –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –Њ—В–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–ї —Б –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є —В—А–∞–љ—И–µ–Є
–±—Л–≤—И–Є—Е –≤–Њ–є–љ, –Є—Б–Ї–∞–ї –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л –Є –≥—А–∞–љ–∞—В—Л, –Є–≥—А–∞–ї –≤ –Ї–≤–∞—З–∞, –≤–∞–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ –Љ—П–≥–Ї–Є—Е
—В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В—Л—Е –ї—Г–ґ–∞–є–Ї–∞—Е, –Њ–±—А—Л–≤–∞–ї –Ї—Г—Б—В—Л –±–∞—А–±–∞—А–Є—Б–∞, –Њ–±—К–µ–і–∞–ї—Б—П –і–Є–Ї–Њ–є –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–є,
—Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –Љ–∞—Б–ї—П—В, –∞ –њ–Њ –≤–µ—Б–љ–µ –њ–Њ—А—В–Є–ї –Ї–Њ—А—Г –±–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Л—Е —А–Њ—Й, –≤–Ї–ї–Є–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —В–Њ
–Ј–і–µ—Б—М —В–Њ —В–∞–Љ –≤ –≤–µ—З–љ–Њ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ,
–Т–Є–≥—Г—А–Њ–≤—Й–Є–љ–∞, –Ґ—А–Њ–µ—Й–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Є –Є—Б—Е–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–і–Њ–ї—М –Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї. –С—Л–≤–∞–ї–Њ, –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є
–і–Њ –С—Л–Ї–Њ–≤–љ–Є, –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –≤—Л—И–µ–Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥–ї—Г—И–Є–ї–Ї–Є, –і–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ,
–Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –С—Л–≤–∞–ї–Њ, –Є –ї–µ—Б
–њ–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–ї–Є, –Є –і—А–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —Б –Ї—Г–≥—Г—В–∞–Љ–Є, –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ–ї–≥–Њ—Б–њ–Њ–≤
–і–∞ —А–∞–і–≥–Њ—Б–њ–Њ–≤. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —А–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, —Б
—Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ "–≥", —Б –љ–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є, —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ–Є "—И–Њ", "–і—Н" –Є
–њ—А–Њ—З–Є–Љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –і—Г—Е–µ. –Ъ–Њ—Б—В—П –ґ–Є–ї –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ–є, –љ–∞
–≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –±–µ—Б–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—М—П, –љ–∞ —Б—В—Л–Ї–µ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –љ–∞
—Б–∞–Љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ —Е–Њ—Е–ї—П—В—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Ж–∞–њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞. –С—Г–і—Г—З–Є –њ–Њ –Њ—В—Ж—Г
—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ, –∞ –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–µ–Љ, –Њ–љ –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П
—Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–µ, –љ–Њ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —В–Њ –±–Є—В—Л–Љ, —В–Њ
–±—М—О—Й–Є–Љ. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –Ј–∞–Ї–∞–ї—П–ї –≤–Њ–ї—О, –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Ј–і–µ—Б—М
–≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –≤—Б–µ –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –њ—А–Њ —В–µ—Е, "–Ї—В–Њ
–љ–µ —Б –љ–∞–Љ–Є". –Э–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –љ–Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Ј–∞–љ—П—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О
–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –Љ–µ–ґ
–і–≤—Г—Е –Њ–≥–љ–µ–є.
–°–µ–є—З–∞—Б –Ъ–Њ—Б—В—П –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –∞ –≤–µ—А–љ–µ–µ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≥–Њ—Б–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ
–§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, —Б–±–µ–ґ–∞–ї –Є–Ј –і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –њ—А–Њ–і—Л—И–∞—В—М—Б—П
—Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –Љ–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞. –Ф–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Њ–і—Л—И–∞—В—М—Б—П, –њ—А–Њ–і—Л—И–∞—В—М—Б—П
–Њ–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –Є –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞—И—В–∞–љ–∞–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М
—Г—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ. –Ю–љ –±—А–µ–ї –њ–Њ —Б—В–∞—А—Л–Љ,
–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ, –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–ї –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ—Г–ї–Ї–Є,
–Ї–Њ–µ-–≥–і–µ —Г–ґ–µ —Б—В–µ—А—В—Л–µ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –ґ–Є–ї—Л–Љ
–Љ–∞—Б—Б–Є–≤–Њ–Љ, –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–ї –љ–∞–і –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —В–Њ–≥–Њ
—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–Њ—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П. –Ю–љ –Љ–Њ—А—Й–Є–ї —Б–≤–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —З–Є—Б—В—Л–є –ї–Њ–± –Ї–Њ—Б–Њ–є
–љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ–є —З–µ—А—В–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –±—Л–≤–∞—О—В –ї–Є—И—М —Г –ї—О–і–µ–є —Б –љ–µ—Г–і–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ
–њ–ї–∞–љ–Њ–Љ, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —В–µ—А–µ–±–Є–ї –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–Є–є –≤–Є—Б–Њ–Ї –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М,
—З—В–Њ –ґ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –љ–µ–њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ
–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–њ—П—В—М –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –Њ—В
–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞ –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А, –≤
—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ. –Ш —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –µ—Й–µ —В–∞–Ї, –∞ –≤–µ–і—М –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ
—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤
–Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ, –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –Њ—В—З–µ—В –Њ–± –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є
–њ–Њ–і –Ї–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ "–Р—А–Ї—В—Г—А". –Ґ—Г—В –µ–≥–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–њ–∞—Б–ї–Є, —Б–њ–∞—Б
–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ф–Ј—О–±–∞.
-–Ґ—Л —И–Њ, –Ј –≥–ї—Г–Ј–і—Г –Ј—К–Є—Е–∞–≤? - –њ–Њ—Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї. - –Ч–∞–±–µ—А–Є —Б–≤–Є–є
–њ–∞–њ–Є—А, —И–Њ–± —П –µ–≥–Њ –љ–µ –±–∞—З–Є–≤. - –Ш –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї: - –Я–Є–і—Н—И—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –і–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—Г—В—Н—А–Є–≤,
–Љ–Њ–ґ–µ, –Њ—З—Г—Е–∞–µ—И—М—Б—П.
–Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, –і–Њ—Б—В–∞–ї –≥–Є—В–∞—А—Г –Є –і–Њ –љ–Њ—З–Є
–њ–Є–ї –Ї–Њ–љ—М—П–Ї–Є –Є –Њ—А–∞–ї –њ—А–Њ –Ј–∞–≥–љ–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Ш –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ
–њ–Є–ї, –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞—П –≥–Њ—А–ї–Њ –і–ї—П –њ–µ—Б–µ–љ, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П
—Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, —Б—В–∞–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ –Є –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є, –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –≤ —Б–Є–Ј–Њ–Љ
—В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–љ–Њ–Љ —В—Г–Љ–∞–љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є—Ж–Њ –У–Њ—А—Л–љ—Л—З–∞, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ –Є —Е–Є—В—А–Њ–µ,
–њ–Њ–і–Љ–Є–≥–љ—Г–ї–Њ –Є –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Њ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ –і—Л–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, —В—Г—В –ґ–µ
—А–∞—Б–њ–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Г—О –≥–Є—А–ї—П–љ–і—Г.
–І–µ—А–µ–Ј –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є –Ї —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –Є –њ—А–Є—В–Њ—А–љ—Л–Љ —И—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ
–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б—А–Њ—З–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї—В–Њ
—В–∞–Љ –Є–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П, –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–Є: "–Х—Б—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є
–Ч–∞—Б—В–∞–≤–µ". –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ. –Т —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є
–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±—Л–ї–Є –≤ –Ї—Г—А—Б–µ —В—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—З–µ—В–∞ –Є –љ–µ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞—П –њ–Њ–і–Ї–Њ–ї–Њ—В—М
–њ–µ—А–µ—А–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–∞. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Њ –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ
–њ–Њ—А—В–≤–µ–є–љ–µ, –Њ–љ —Г–љ—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—З–µ–ї –њ—А–Є–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Г—О –Ї –і–Є—Б–Ї—Г —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї—Г —Б
–њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ: "–°–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –љ–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П!", - –Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї:
—З—В–Њ-—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–њ—П—В—М.
-–І—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Ъ–Њ—Б—В–Є–Ї? - —Б –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В—П–≥–Є–≤–∞—П –≥—Г–±—Л, —З–∞—Б—В–Њ
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞ –ґ–µ–љ–∞ –Ґ–∞–љ—П.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ–Љ—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ
—Б–њ—П—В–Є–ї. –Ш—Б—З–µ–Ј —Ж–µ–ї—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Э—Г –љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і, –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ. –Ф–∞ –Є –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј, –∞
–њ–µ—А–µ—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –љ–∞ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —В—Л—Б—П—З –ї—О–і–µ–є.
–°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –Ї–ї—Г–±–Њ–≤ –і—Л–Љ–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є
—Б–Њ–±–Њ—А—Л, –Њ–љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г–і–∞—А–Є–ї —Б–µ–±—П –≤ –≥—А—Г–і—М, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –њ—А–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П —В—Г—В –ґ–µ –Є
–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—А–Њ—В—А–µ–Ј–≤–µ—В—М –Њ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–≤–µ–є–љ–∞. –Э–Њ
–љ–∞–≤–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ. –Ґ–Њ–ї–њ–∞, –Њ–±–µ–Ј—Г–Љ–µ–≤, —А–∞–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–∞—Б—М, –∞ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞
–Љ–µ—Б—В–µ, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–Њ—П–ї–∞
–Є—Б–њ–Њ–Ї–Њ–љ –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Ъ–∞–Ї –µ–≥–Њ —Б—О–і–∞ –Ј–∞–љ–µ—Б–ї–Њ? –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М,
—З—В–Њ –Њ–љ, –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–ї–Њ—Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Л–Љ,
–љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Э–Њ —Н—В–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–∞
–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —З–µ–њ—Г—Е–∞, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і! –Ю—В–Ї—Г–і–∞, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є
—Б—В–∞—В–Є?! –Ч–і–µ—Б—М, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –≤—Л—Г—З–Ї–∞: —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї
–њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Є –Њ–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Њ—В—З–Є—В–∞—В—М—Б—П. –Я—Г—Б—В—М –≤—Б–µ —А—Г—Е–љ–µ—В –≤ —В–∞—А—В–∞—А–∞—А—Л, –∞ –Њ–љ
—П–≤–Є—В—Б—П –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤ —Б–µ–±–µ –љ–∞ –≥–Њ—А–ї–Њ,
—З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ї—А–Є—З–∞—В—М. –Ю—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –њ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –љ–Њ–Љ–µ—А—Г.
–Ґ–∞–Љ –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Б—А–Њ—З–љ–Њ —П–≤–Є—В—М—Б—П —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ. –Э—Г –∞ –і–∞–ї—М—И–µ -
–і–∞–ї—М—И–µ –µ–≥–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є —Б –≥–ї–∞–Ј –і–Њ–ї–Њ–є –≤ –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А.
–Э–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –Ї—А–∞–є –±—Л–≤—И–µ–є —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ–Њ–є —А–Њ—Й–Є.
–Ъ–∞–Ї –≤—Б–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М! –†–Њ—Й—Г –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ, –∞ —Б
–±–Њ–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –≥—А—П–Ј–љ–Њ–µ, –Ј–∞—Е–ї–∞–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –Є –±–µ—В–Њ–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–µ
—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –°—В–∞—А—Л–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–Є —В–Њ–њ–Њ–ї—П, –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞,
–љ–µ–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –ї–µ—Б–∞ –Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Б —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ
–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є —А–Њ–і–љ—Л–Љ. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–є,
–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ: –љ–Њ—З—М, –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –Є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –Њ
–і–∞–ї—М–љ–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Є –љ–µ–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞—Е, –њ–Њ—З—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —И—Г–Љ —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ—Л—Е
–Ї—А–Њ–љ. –Ю–љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ, –Ј–∞–Ї–∞–ї—П—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, —З–∞—Б—В–Њ –љ–Њ—З—М—О –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г
–ї–µ—Б–∞ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї, –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ—Л–µ —А—П–і—Л –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Х–Љ—Г —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –ї–µ—Б, –∞ –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –Є
—З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і, –∞ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ –Я–Њ–ї–µ, –Є –Њ–љ –ґ–і–∞–ї, –ґ–і–∞–ї
–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–∞. –Э–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–Њ —Г—В—А–Њ, –Є –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –ї–µ—Б
–њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤ –ї–µ—Б, –Є –Њ–љ —И–µ–ї —Б–µ–±–µ –Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А—Ж–Њ –≤—Л–ї–Њ–≤–Є—В—М
–і–µ—Б—П—В–Њ–Ї-–і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞—А–∞—Б–µ–є. –Ъ–∞–Ї –≤—Б–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Ю–љ –њ–Њ–є–Љ–∞–ї —Б–µ–±—П –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є
–Љ—Л—Б–ї–Є, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —В–Њ–ґ–µ –≤—Б–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —З—Г–ґ–Є–Љ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ.
–Э–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –≤ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї—П—Е –Ї–∞–Љ—Л—И–∞ —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ—З–Ї–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї-—А—Л–±–∞–Ї, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ
–і–µ—А–≥–∞—П –≤–µ—А–±–љ–Њ–µ —Г–і–Є–ї–Є—Й–µ.
-–Э—Г –Ї–∞–Ї, –Ї–ї—О–µ—В? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, —Б—В—Г–њ–∞—П –њ–Њ –Љ–Њ–Ї—А–Њ–Љ—Г —В–Њ—А—Д—П–љ–Є–Ї—Г –Є
—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П, –Ї–∞–Ї –≤ —В—Г—Д–ї–Є –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —В–µ–њ–ї–∞—П –Њ–Ј–µ—А–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞.
-–Ґ–∞ –љ–Є, - –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є, –љ–∞–≥–љ—Г–ї—Б—П –Є –≤—Л–љ—Г–ї –Є–Ј –≤–Њ–і—Л
–њ–Њ–ї–Є—Н—В–Є–ї–µ–љ–Њ–≤—Л–є –њ–∞–Ї–µ—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–≤–µ—А—Е—Г –±—А—О—Е–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л–є
–Ї–∞—А–∞—Б—М.
-–Ф–∞, –љ–µ –≥—Г—Б—В–Њ. –Р –љ–∞ —З–µ—А–≤—П–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї?
-–Р —П –љ–∞ —Й–Њ –ї–Њ–≤–ї—О? - –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї. - –Э–∞ –Ї–µ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Њ–і–Ї–∞
–Є–і–µ—В.
-–Э–∞ –Ї–µ—Б—В–Њ? - –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤.
–Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї –љ–µ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –≥–ї—П–і–µ—В—М –љ–∞ —Б—Г—Е–Њ–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ-–±–µ–ї—Л–є
–њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Њ–Ї. –°–Њ —Б–њ–Є–љ—Л –≥—А–µ–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Ј–≤–µ–љ–µ–ї —Б—В—А–µ–Ї–Њ–Ј—М–Є–Љ–Є –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є,
–≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –≤–Њ–і—Л –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–∞ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В –≤ –љ—Г–ґ–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї –Ј—А–µ–љ–Є—П.
–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Б—П –њ–Њ –њ–Њ—П—Б –Є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞
–љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–∞.
-–Т—Л, –і—П–і—М–Ї—Г, —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ—Н–љ?
-–Ь–∞—Б—В–µ—А —Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ –ї–Њ–≤–ї–µ —А—Л–±—Л –≤ –Љ—Г—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і–µ, - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ї—А–Є–≤–Њ
—Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П.
–Ь–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞ –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ —В—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–Є—Ж–µ–њ—Б—Л –Є
—В—Г—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –љ–µ—З—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ.
- –Ю–љ, –≤–∞—Б –і—П–і—М–Ї–Є –Ї–ї—Л—З—Г—В—М, - –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ —А—Л–±–∞–Ї.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –≤–і–∞–ї–Є, —Г –≤—Л—Б–Њ—Е—И–µ–є —В–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Є–≤—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї
—Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О –њ–∞—А–Њ—З–Ї—Г. –•—Г–і–Њ–є —Б—Г—В—Г–ї—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–љ –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –Ї –і–µ—А–µ–≤—Г –Є, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤
—А—Г–Ї–Њ–є –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є, –љ–Є–Ј–µ–љ—М–Ї–Є–є,
–Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–є, –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ, –њ—А–Є –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–µ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞ –Є
–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –Ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Г, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є—Е—А–∞–Љ—Л–≤–∞—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Г—О –љ–Њ–≥—Г.
65
-–Ш—В–∞–Ї, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ? - –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–Њ–љ–Њ–Љ
—Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.
–Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –ї–µ—Б–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Ј
—А–∞—Б–њ–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ–ї—М –±—А–µ–≤–љ–∞. –°—В–∞—А–Є–Ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –њ–Њ–љ—Г—А–Є–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –ї–µ–љ–Є–≤–Њ —И–∞—А–Є–ї
–њ–Њ —В—А–∞–≤–µ –Ї—А–Є–≤—Л–Љ —Б—Г—З–Ї–Њ–Љ –Є –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –±—Г–і—В–Њ —Б —З–µ–Љ-—В–Њ
—Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–Ї—Г —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–Є, –≤–њ–Њ–ї–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞
–њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј –Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М–µ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –Є –≤—Б–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥
–њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –±—Л–≤—И–Є–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ.
-–Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤—Б–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є
—Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л, –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г
—Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–∞—Г–Ј—Г, –Є –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –±–µ–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—В–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. - –Т–µ—А–љ–µ—В—Б—П, –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П,
- –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Љ—Г–ґ –Ь–∞—А—В—Л, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П, - –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ
–љ–µ–Ї—Г–і–∞ –µ–Љ—Г –і–∞–ї—М—И–µ. –Э–∞ —В–Њ –µ—Б—В—М —В—А–Є —В–µ–Ј–Є—Б–∞.
-–Ъ–∞–Ї–Є—Е —В–µ–Ј–Є—Б–∞? - –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –Ј–∞–≥–∞–і–Њ–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ.
-–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З—В–Њ–± –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞
–і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ–Љ. –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г—Б—В–∞, —П –≤–Є–і–µ–ї - –њ—Л–ї—М, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Л, –Є –≤—Б–µ,
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Є—Й–Є —Г–Љ—Г –Є —Б–µ—А–і—Ж—Г. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞, –Є –µ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ
–Њ—В–Ї–ї—О—З–∞–ї, –∞ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б–≤–µ—А–љ—Г—В—М - –≤
—Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—Е–Љ—Л–ї—М–љ—Г–ї—Б—П. - –Р
–≤-—В—А–µ—В—М–Є—Е, —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, - –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞ –≤ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µ –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О
—Б—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–ї–Њ—В–Њ—П–і–љ–Њ –Ј–∞–±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є. - –ѓ –µ—Й–µ —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є–ї, –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–µ,
–Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є–ї. –≠, –і—Г–Љ–∞—О, —В—Г—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —В—Г—В —Г –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є—В—П–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є
–њ—А–µ–і–Љ–µ—В, —В–∞–Ї–∞—П, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М –ї–Є, –Ј–∞—Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П, –љ–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–∞—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г
—З—В–Њ –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –µ–µ –Њ–љ–Є —Г–ґ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–∞—В. - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Њ–њ—П—В—М —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–∞—Г–Ј—Г,
—В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –ґ–і—Г—В –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞–≥–ї–Њ —Н—В–Њ—В –Ї–Њ—А–Њ—В—Л—И–Ї–∞ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї –µ–Љ—Г –Ї—Г–ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б
–±–Њ—А—В–∞ —А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–љ—Л—И–Ї–∞. –І–µ–њ—Г—Е–∞, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Л–Љ –Є
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Л–Љ? –Р–Љ—Г—А–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М - –љ–µ–ї–µ–њ–Њ. –Э—Г, –∞ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –Њ–љ-—В–Њ –Ї–∞–Ї?
–Т–µ—В–µ—А–∞–љ –њ–∞—А—В–Є–Є, –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ
–Њ–±—К–µ–Љ–µ.
-–Э—Г, –∞ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П? - –≤–і—А—Г–≥ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ.
-–Т–µ—А–љ–µ—В—Б—П, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Љ—Л –µ–Љ—Г –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ? –І–µ–Љ
–њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞–µ–Љ—Б—П? - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Є—Б–њ—Л—В—Г—О—Й–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. - –Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є
–≤ –Њ–±—А–µ–Ј. –Ъ–Њ–µ-—З—В–Њ —П —Г—Б–њ–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї–Њ. –Э—Г–ґ–љ–Њ —Б–њ–ї–Њ—В–Є—В—М—Б—П,
–љ–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –њ–ї–∞–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ—Г–ґ–љ–∞ –Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П.
-–У–Њ—Б–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–µ–Ї—Г, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–љ—Г–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г.
–Ґ–Њ—В –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–µ—И–Є–ї —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞—А–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ –љ–∞
–Љ–µ—Б—В–Њ.
-–Я–Њ–ї–µ–≥—З–µ, –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–є...
-–Ю–є-–µ–є-–µ–є, - –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ї—А–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤. - –Ъ–∞–Ї–Є–µ –Љ—Л —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ, –љ—Г
–њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ–ї–Ї –і–Є–Ї–Є–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–≥–љ–∞–љ–љ—Л–є. –Ф–∞–ґ–µ –Љ–Њ—А–Њ–Ј –њ–Њ –Ї–Њ–ґ–µ, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤
–Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–Њ –њ–Њ–µ–ґ–Є–ї—Б—П. - –Ю–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ—Б—М, –Ї–∞–њ–Є—В–∞—И–µ—З–Ї–∞, –Њ–≥–ї—П–љ–Є—В–µ—Б—М, –≥–Њ–ї—Г–±—З–Є–Ї! –Р –њ–Њ
–љ–Њ—З–∞–Љ –Ї–Њ—И–Љ–∞—А—Л —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –љ–µ –Љ—Г—З–∞—О—В? –Т–Є–і–µ–љ–Є—П –ґ–∞–ї–Њ–±–љ—Л–µ –љ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—В? –Ь–Њ–ґ–µ—В,
—Б–љ–Є—В—Б—П –Ѓ–ґ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –њ–Њ–µ–Ј–і–∞, —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л,
—Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞? –У–і–µ –Њ–љ–∞, –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞? –Ю–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ—Б—М,
–≥–Њ–ї—Г–±—З–Є–Ї, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Њ—В–њ–Њ–ї–Ј–ї–∞. –Э–∞ –і–≤–Њ—А–µ —В—Л—Б—П—З–∞ –і–µ–≤—П—В—М—Б–Њ—В –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В
—З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –≥–Њ–і,
–∞ —Г –≤–∞—Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ–і –≤ –Љ–Њ–Ј–≥—Г? –Ф–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В—Л–є? –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л–є –Є–ї–Є
—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є? –Ъ—Г–і–∞ –њ–Њ–є–і–µ—В–µ - –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –њ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–Њ —В–Њ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ї–µ—В–∞
—Б—В–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є–Ј –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞? –Ъ—Г—А–∞–Љ –љ–∞ —Б–Љ–µ—Е, —А–∞–Ї–µ—В–∞ –≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б, –∞
–≤—Л - –≤ –ґ–µ–ї—В—Л–є –і–Њ–Љ! –•–µ-—Е–µ...
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Б–ґ–∞–ї –Ї—Г–ї–∞–Ї–Є, –Є –њ–Њ —В–µ–ї—Г –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Є –≤–Њ–ї–љ—Л –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є
—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л.
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ–ї, –љ–Њ –љ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї.
-–≠—Е, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ, –Ґ–∞–љ–µ—З–Ї—Г
–С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤—Г, —Б–Є—А–Њ—В—Г —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї—Г—О?
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–∞–ї –Ј—Г–±–∞–Љ–Є.
-–Э—Г, –љ—Г, –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–є, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, –Ј–∞—З–µ–Љ —Б—Б–Њ—А–Є—В—М—Б—П! –Э–∞–Љ –ґ–µ —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ,
–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є, —Н—В–Њ –ґ –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–ї—З–Њ–Ї. –Ь—Л –ґ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–і–љ–Є
–Ј–љ–∞–µ–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Н—В–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ—П, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Н—В–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞
—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П! –І–Є–Ї, –Є –µ—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і, —З–Є–Ї, —А–µ–≥–Є–Њ–љ –љ–Њ–≤—Л–є, –±–∞—Ж, —А–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–∞, –±–∞—Ж,
–љ–µ—В—Г —В–µ–њ–µ—А—М. –Ф–∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ —А–µ–Ї–∞, –Љ—Л —В—Г—В –њ–Њ–ї—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –і–≤–∞ —Б—З–µ—В–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є
–Љ–Њ–ґ–µ–Љ, –Є–ї–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –µ–і–Њ–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ
–њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –љ—М—О—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П! –Р –≤–µ–і—М –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–ї –≤–∞–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Б–∞–Љ
–µ—Й–µ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї, –љ–Њ –≥–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, –Є–±–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї
–њ—П—В—М —В–≤–Њ–Є—Е, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ!
–Ф–∞ —В—Г—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А, —И–µ–≤–µ–ї—М–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤
–≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–Ј–≥—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ
"–Ь–µ—В—А–Њ", –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–ї–Њ–≤–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—З–µ—В —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї
–љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –Ј—А—П —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А - —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В
–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є —Г–Ї–∞–Ј–Њ–≤? –І–µ–њ—Г—Е–∞. –Т–Ј—Л–≥—А–∞–ї–∞ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–∞, –љ–∞ —Г–Љ
–њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є —Б—В–∞—А—Л–µ –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–±—Л—В—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –Њ–њ—Л—В –Ъ–∞–≤–µ–љ–і–Є—И–∞, –Њ–њ—Л—В –Ь–∞–є–Ї–µ–ї—М—Б–Њ–љ–∞ -
–Ь–Њ—А–ї–Є, —Н—Д—Д–µ–Ї—В –Ь–µ—Б—Б–±–∞—Г—Н—А–∞. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В, –∞ –µ—Б—В—М –ї–Є—И—М
—Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Љ–∞—И–Є–љ–∞, —В–∞–Ї –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ—А–µ–Ј–∞–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М?
–Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, –њ—А–∞–≤ –±—Л–ї –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є–Љ –≤–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ. –С—А-—А—А.
–Ґ–∞–Ї –Є —Б–њ—П—В–Є—В—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ш–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г–ґ–µ? –Ф–∞ –љ–µ—В, –љ–µ—В, –Њ–љ –≤—Б–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В,
–≤—Б–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э–µ—В, –љ–µ—В, —Б–∞–Љ —Б–µ–±–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, —З–µ—А—В–∞ —Б –і–≤–∞, –µ—Б—В—М –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –∞ –µ—Б—В—М –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є,
–µ—Б—В—М –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–µ, –∞ –µ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –ґ–Є–≤–µ—В –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ, –њ–Њ
—Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–∞–Љ. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –њ—А–Њ —Б–µ–±—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Є –≤–і—А—Г–≥
–њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–є –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–µ
—Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Т–µ–і—М –Њ–љ, —Б—Л–љ –љ–∞—Г–Ї–Є, –Њ—В–њ—А—Л—Б–Ї –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞, —Б
–ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є —В–∞–Љ, –Є —В–∞–Љ
–і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Л—Б—И–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г.
-–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ –±—Г–і—Г—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П? - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Л—В—П–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Є –њ–Њ —И–≤–∞–Љ –Є
–≤—Л–Ї–∞—В–Є–ї –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ —Е–Њ—Е–ї—П—В—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Ж–∞–њ—Б–Ї–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞.
-–Э–µ—В, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤—Б–µ–є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –±—Л
–Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Г. - –Э—Г, —В–∞–Ї –њ—Г—Б—В—М –њ–Њ–є–і–µ—В –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г, –Ї–∞–Ї
–Њ–љ –њ—А–Њ–Ј–µ–≤–∞–ї –∞–љ—В–Є–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А, –Є –Љ–∞–ї–Њ - –њ—А–Њ–Ј–µ–≤–∞–ї, —Б–∞–Љ
—Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –∞–љ—В–Є–њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–Є –≤
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–њ–Є–ї—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–љ—М—П, –∞ —Г—В—А–Њ–Љ –≤ —Б–∞–Љ—Л–є –≤–∞–ґ–љ—Л–є,
—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П —Б –і–µ—Б—П—В–Є —И–∞–≥–Њ–≤, –њ—А–Њ–Љ–∞–Ј–∞–ї, —Б–ї—О–љ—В—П–є, –і–∞–ї
—Г–є—В–Є, –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М –≤—Б–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—О —А–Њ–і–Є–љ—Л –°–µ—А–≥–µ–µ–≤—Г!
-–І–µ–њ—Г—Е–∞, - –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, - –≤—Б–µ —Б–Љ—Л–ї–Њ –≤–Њ–і–Њ–є, –±—Л–ї—М–µ–Љ –њ–Њ—А–Њ—Б–ї–Њ...
-–Э—Г —В–∞–Ї, –∞ —П –Њ —З–µ–Љ! –Т–µ–і—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –ґ–µ –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –±—А–Њ—Б–Є—В—М –љ–∞—Б,
–і—А—Г–Ј–µ–є-—Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї —Б—Г–і—М–±—Л –≤ –ї–∞–њ—Л –≤–∞—И–µ–≥–Њ –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞,
–Њ–љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г –љ–∞—Б –љ–µ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є. –Э—Г
–њ—А–Є–Ј–љ–∞–є—В–µ—Б—М, –і–Њ—А–Њ–≥—Г—И–∞, —З—В–Њ –Њ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ? –Ф–∞, –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є
–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А, –і–∞, —Г–Љ–µ—А, —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є, –∞ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞
–Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞...
-–Э–µ –±—Л–ї–Њ, - –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤.
-–Ґ–Њ-—В–Њ, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї —А–∞–±—Б–Ї—Г—О —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є—О –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї –љ–µ–±—Г.
- –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ —В–µ–±–µ, —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —В—Л –љ–∞—И —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
-–Э–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ–є—В–µ, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Љ–∞—И–Є–љ–∞ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В? - –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж
—Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ —Б—В–∞—А—З–µ—Б–Ї–Є —В—А—П—Б –≥—Г—Б–Є–љ–Њ–є —И–µ–µ–є, –∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В
–љ–µ–±–µ—Б, –≥–і–µ —И—Г–Љ–µ–ї–Є —Б–≤–µ—В–ї–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –±–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–±–µ–≥–Є, –Є –Є–Ј—А–µ–Ї:
-–Р –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –±—Л? –У–∞–Ј–µ—В—Л —З–Є—В–∞–µ—В–µ, —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ? –≠—В–Њ –ґ –њ—А–Њ—Б—В–Њ
–Ї–Њ—И–Љ–∞—А –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ –ї–Є—Ж–∞, —З—В–Њ –Ј–∞ —А–µ—З–Є! –У—А—Г–Љ-–±—Г–Љ-–±—Г—А—Г–Љ-–≥—Г—А—Г–Љ, –≤–Њ—В –Є
–≤—Б—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞. –£–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—З—В–∞–љ–Є–є, –≤–µ—А—Е–Є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ
–Љ–Њ–≥—Г—В, –љ–Є–Ј—Л –њ–Њ —Б—В–µ–њ–Є —А–∞–Ј–±—А–µ–ї–Є—Б—М, –Є—Б—В–Є–љ—Г –Є—Й—Г—В. –Р —Б—В—А–∞–љ–∞ –љ–µ—Б–µ—В—Б—П –≤
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї —В–Њ—В –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –±–µ–Ј –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–∞. –Т—З–µ—А–∞ –Ч–∞—Б—В–∞–≤–∞
–Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ѓ–ґ–љ—Л–є, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞? –•–Њ—А–Њ—И–Њ –µ—Й–µ, –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П
–њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є, –∞ –µ—Б–ї–Є —Е—Г–ґ–µ - –љ–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ—Л–є –њ–Њ—В–Њ–њ?
–Ґ–Њ–≥–і–∞ —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–ґ–µ—В–µ? –Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –®–љ–Є—В–Ї–µ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л—Е
–Ї–Є—В–Њ–≤ –Є –Ї–∞—А–∞—Б–µ–є? –Э–µ—В —Г–ґ, –і—Г–і–Ї–Є, —В—Г—В —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г —А—Г–ї—П –≤—Б—В–∞—В—М...
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г –≤—Б—В–∞–ї –Є –Ј–∞–Ї—А—Г—В–Є–ї –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —И—В—Г—А–≤–∞–ї. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ
—Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –°–µ–є—З–∞—Б –≤ –±–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–Њ–є —А–Њ—Й–µ, –≤ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ
–Њ—В–і—Л—Е–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є–Ї—А–Њ—А–∞–є–Њ–љ–∞ - –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–Є - —Г–ґ–µ
–њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Љ–∞–Љ—Л –Є –±–∞–±—Г—И–Ї–Є —Б –Ї–Њ–ї—П—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ
–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—П –Љ–Є–Љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–Є.
-–Т–Є–і–Є—И—М, –і—П–і–µ–љ—М–Ї–Є –≤—Л–њ–Є–≤–∞—О—В, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–µ—Б–Љ—Л—И–ї–µ–љ—Л—И—Г
–Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–љ—М–Ї–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О. - –Э–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –і—П–і–Є. -
–†–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї, –Љ–∞–Љ–∞—И–∞ –њ–Њ—Б—О—Б—О–Ї–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤–Ј—П–ї–∞ —З–∞–і–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–Є. - –Р
–Њ–і–Є–љ, —Б–Љ–Њ—В—А–Є, —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ –µ—Й–µ, –Ї –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А—Л–≥–∞—В—М –±—Г–і–µ—В
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ-–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, –≤—Л—И–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–µ–±–Њ—Б–Ї—А–µ–±–Њ–≤.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј–Є–ї—Б—П –Є –љ–∞–і–µ–ї —А—Г–±–∞—И–Ї—Г. –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ —В–Њ–ґ–µ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї
–њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П. –Т–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–ї–Њ—Е–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В –ґ–∞—А—Г.
-–•–∞–љ—Л–≥–Є, - –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –±–∞–±—Г–ї—П —Б —Й–µ–Ї–∞—Б—В–Њ–є —В–Њ–ї—Б—В–Њ–є
–і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Њ–є. - –Р —В—Л, —Б—В–∞—А—Л–є, - –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ –Ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Г, - —П–Ї —В–Њ–±–Є
–љ—Н —Б–Њ—А–Њ–Љ–љ–Њ? –Ґ—М—Д—Г!
-–Ь–∞–Љ–∞—И–∞, –Є–і–Є—В–µ –Љ–Є–Љ–Њ, - —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Б—Г–њ–Є–ї –±—А–Њ–≤–Є.
–С–∞–±—Г–ї—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–µ–Љ–љ–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Д–ї–∞–ґ–Њ–Ї,
–њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї –ї–∞—Ж–Ї–∞–љ—Г –і–Њ–±—А–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞, –Є —В—Г—В –ґ–µ
—А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Њ–Љ, –њ–Њ–±–µ–і–љ–Њ –Њ—В–і–∞–ї
–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
-–†–∞—Б—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г. –ѓ –њ–Њ–є–і—Г –њ–µ—А–≤—Л–Љ, - –Є —В—Г—В –≤—Б–њ–ї–µ—Б–љ—Г–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є: -
–Ф–∞, —З—Г—В—М –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї. –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ—Л—З, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ?
-–Т—Б–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, - –Њ—В—З–Є—В–∞–ї—Б—П –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л–є.
-–°–Ї–Њ—А–Њ –Є—О–љ—М, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –Ј–∞ —Б–≤–µ—В, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤
–і–Њ—Б—В–∞–ї –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Є–Ї –Є –Њ—В—Б—З–Є—В–∞–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Г –і–µ–љ–µ–≥. - –Т–Њ—В, –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є—В–µ –Ј–∞ —В—А–Є
–Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –і—Г–Љ–∞—О, –Њ–љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ –њ–Њ—П–≤—П—В—Б—П. –Ф–∞, –Ј–∞–≤—В—А–∞ –Ь–∞—А—В–∞ –њ—А–Є–і–µ—В, –њ—А–Є–±–µ—А–µ—В—Б—П,
—З—В–Њ–± –љ–Є –њ—Л–ї–Є–љ–Ї–Є —В–∞–Љ, –Є –љ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—В–µ... - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, —З—В–Њ–±—Л
—Г–є—В–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ —В—Г—В –µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤.
-–Ґ–∞–Ї –Ј–∞—З–µ–Љ –Љ–µ–љ—П –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є?
-–Т–Њ—В, - –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, - –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А. –Ц–µ–ї–∞–µ—В–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ
–њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М?
-–Э—Г.
-–С—Г–і–µ—В –і–ї—П –≤–∞—Б –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ. –Ф–ї—П –≤–∞—Б —Б–∞–Љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —А–∞–±–Њ—В—Л
–њ—А–Є–±–µ—А–µ–≥–ї–Є, –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –µ—Й–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—В–µ? –Ф–µ–ї–Њ
—А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ, —Н—В–Њ –≤–∞–Љ –љ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –љ–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М... –Ы–∞–і–љ–Њ,
–ї–∞–і–љ–Њ, –љ–µ –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–є—В–µ, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ. –Т–Њ—В –≤–µ–і—М –і–Њ —З–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є
—Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В! –Э—Г-–љ—Г, –љ–∞–Љ –µ—Й–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, —З–µ—А—В –µ–≥–Њ –і–µ—А–Є. -
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ –Є —В–Є—Е–Њ —И–µ–њ–љ—Г–ї –љ–∞ —Г—Е–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ:
- –°–Њ—Д—М—П –Ш–ї—М–Є–љ–Є—И–љ–∞ –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ–∞. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В–µ? –Э—Г –Ї–∞–Ї –ґ–µ, –Ј–∞–±—Л—В—М —В–∞–Ї—Г—О
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г —В—А—Г–і–љ–Њ–≤–∞—В–Њ. –Т–Њ—В –Њ–љ–∞ –Є –µ—Б—В—М –љ–∞—И–∞ –Ј–∞—Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞. –Э–µ –і–∞–є –С–Њ–≥,
–†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —П–≤–Є—В—Б—П, –∞ –µ–µ –љ–µ—В - –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µ? –Р, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤—Л –љ–µ
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µ. –Т—Б–µ –і–µ–ї–Њ –њ–Њ–і –Њ—В–Ї–Њ—Б –њ–Њ–є—В–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В, –∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ -
–њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –њ–Њ–µ–Ј–ґ–∞–є—В–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —В–µ–њ–µ—А—М, –≤
–Я–Є—В–µ—А –Є —А–∞–Ј—Л—Й–Є—В–µ. –Ф–∞ —Г—З—В–Є—В–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є
—В–Њ–≥–Њ —Е—Г–ґ–µ, —А—Г–Ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±—П –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞. –Э–µ –і–∞–є –С–Њ–≥, –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥... - –љ–µ
–і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Ј–∞—Е—А–Њ–Љ–∞–ї –≤–Њ–љ –Є–Ј –ї–µ—Б—Г.
66
–Э–µ—В, –°–Њ–љ—П –љ–µ –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П —А—Г–Ї–Є, –љ–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –µ–є –±—Л–ї–Њ. –£–ґ–µ –љ–∞
—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Г—В—А–Њ –µ–µ –≤ –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–µ, —Б —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–є –њ–Њ–і —Б–Њ—А–Њ–Ї —Б–љ—П–ї–Є —Б
–њ–Њ—Б—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Є –≤ –±–µ—Б–њ–∞–Љ—П—В—Б—В–≤–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –≤
–ї–µ–≥–Њ—З–љ–Њ–µ, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї –Ї—А–Є–Ј–Є—Б, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–µ, –Є –µ–µ
–њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ —А–Њ–і–Є–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Љ –≤—Б–µ –Є —А–µ—И–Є–ї–Њ—Б—М. –Я—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–Њ–і—Л
–љ–∞ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ, –Є –љ–∞ —Б–≤–µ—В –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —А—Л—Е–ї–Њ–µ —Б–Љ–Њ—А—Й–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ,
–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –≤–љ–µ–±—А–∞—З–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Т—Б–µ –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Њ –Ї–∞–Ї –≤
—В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–љ–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї –Є–Ј–Љ—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ –њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–Є –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–µ
—В–µ–ї—М—Ж–µ, –Њ–љ–∞ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –µ–є –±—Л–ї–Њ —Б—В—Л–і–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В—Г –Љ–Є–љ—Г—В–љ—Г—О
—Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М, –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Х–є
–њ–Њ—З—Г–і–Є–ї–Њ—Б—М, –Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ, –±—Г–і—В–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–µ–µ—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ
–љ–µ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Њ, –∞ —Б–Љ–µ—П–ї–Њ—Б—М, –і–∞ –µ—Й–µ –Є —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Е–Є—В—А—Л–Љ –њ—А–Є—Й—Г—А–Њ–Љ. –†–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —В—Г—В
–ґ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –∞ –Њ–љ–∞ —Б–Њ —Б—В—Л–і–Њ–Љ
–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ, –≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є –њ—А—П—В–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ—В –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ
—Б–≤–Є–і–∞–љ–Є–Є –≤ –±—Л–≤—И–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –і–µ–ї–∞ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П. –°—Л–љ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ц–µ–љ–µ–є,
–њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–ї –љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л—Б—В—А–Њ, –і–∞ –Є –°–Њ–љ—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –Є –≤
–Ї–Њ–љ—Ж–µ –Љ–∞—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ф–ї–Є–љ–љ—Л–є, –њ—А—П–Љ–Њ–є, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є
—Б –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є –≤ —В–Њ—З–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –≥—А–∞–≤—О—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞–Љ–Є,
–Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –µ–µ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—П—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–є —В–Њ–ї–њ—Л. –Ґ–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ,
—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–µ, —В–Њ —З—Г—В—М —Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–µ, –ї—Г–Ї–∞–≤—Л–µ, –∞ —В–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ґ–∞–і–љ—Л–µ,
–Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –±–µ—Б—Б—В—Л–ґ–Є–µ –Њ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є
–±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–ї–∞–Ј–∞. –Э–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–Њ –Є –Ј–∞–±—Л—В–Њ, —Б–і–∞–љ–Њ –≤ –і–Њ–ї–≥–Є–є
—П—Й–Є–Ї –і–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞. –Ґ–∞–Ї —Б–Љ–Њ—В—А—П—В —Б–њ–∞—Б–µ–љ–љ—Л–µ
—Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞ –°–Њ–љ—П, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –≤ —В–Њ–ї–њ–µ —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М, —В–Њ —В–∞–Љ —А–µ–і–Ї–Є–µ
–Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–µ –Є —З—Г—В—М –≥—А—Г—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞. –С—Л–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–Є—Е —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ,
–Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ —А–Њ–і–љ–Њ–µ, –≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≥–і–µ-—В–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –±—Г–і—В–Њ –±—Л
–і–∞–≤–љ—Л–Љ-–і–∞–≤–љ–Њ, –і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Є –±—Г–і—В–Њ –±—Л –і–∞–ґ–µ
–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –Є–љ—Г—О, –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Г—О —Б–≤–Њ—О –њ—А–Њ–њ–Є—Б–Ї—Г, –љ–µ
–С—Г—А–≥–∞, –Є–ї–Є –У—А–∞–і–∞, –∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ —Б –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ
–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В
–≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –Є–Љ–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ
–љ–∞ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ.
–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞,
–Є –Ї—Г–њ–Є–ї–∞ –±—Г–Ї–µ—В —А–Њ–Ј, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є —Б–Љ—Г–≥–ї—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Г—О –њ–ї–µ–љ–Ї—Г.
–Ґ—Г—В –ґ–µ —А–∞—Б–њ–µ–ї–µ–љ–∞–ї–∞ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ, —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–і–Є–љ —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї –љ–∞
–∞—Б—Д–∞–ї—М—В –Є –њ–Њ—И–ї–∞, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б—В—Г–њ–∞—П –≤ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є.
–Я–µ—А–µ–і –∞—А–Ї–Њ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Т–і–∞–ї–Є —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Њ
—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, —В–µ–њ–ї–Њ–µ, –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ–µ, –њ–∞—А—П—Й–µ–µ. –Т–≤–µ—А—Е—Г, –љ–∞–і
–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–≥–Њ–є, –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –љ–µ–±–µ —З–µ—А–љ–µ–ї–∞ –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–∞, –і–≤–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞,
–љ–∞–µ–Ј–і–љ–Є–Ї —Б –≤–µ–љ–Ї–Њ–Љ –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ. –Ы–Њ—И–∞–і–µ–є –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ, –Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–µ–є—З–∞—Б
–љ–µ—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Б–≤–∞–ї–Є—В—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –≤ –ґ–µ–ї—В–Њ–µ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–Њ–≤–Њ–µ
–њ—П—В–љ–Њ.
–Ю–љ–∞ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ —И–∞–≥–љ—Г–ї–∞ –њ–Њ–і –∞—А–Ї—Г –Є —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ. –Ю–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ—И–ї–∞
—Б—В—Г—З–∞—В—М—Б—П –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –і—Г–±–Њ–≤—Л–µ –і–≤–µ—А–Є, –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В–∞–Љ –µ–µ –љ–µ
–њ–Њ–є–Љ—Г—В, –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ–±—А–∞–і—Г—О—В, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –±—Г–і—Г—В —Б—В—А–Њ–Є—В—М —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ:
–Ї–∞–Ї–∞—П, –Љ–Њ–ї, –Ј–і–µ—Б—М —В—О—А—М–Љ–∞? –Ъ–∞–Ї–Є–µ —Г–Ј–љ–Є–Ї–Є, –Њ—В–Ї—Г–і–∞? –£ –љ–∞—Б –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞.
–Ш –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞ —А–µ–Ї—Г, —И—Г—В—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М, –Љ–Њ–ї, –µ—Б—В—М
–Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –≤—Л –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –ї–µ—В –љ–∞ —Б—В–Њ. –Ч–∞—З–µ–Љ –µ–є —Н—В–Њ
–њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ–µ –≤—А–∞–љ—М–µ? –Ю–љ–∞ –Є —В–∞–Ї –Ј–љ–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–і—Г, –≥–Њ—А—М–Ї—Г—О, –љ–µ–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Г—О...
–°–Њ–љ—П –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –Ї —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г –Њ–Ї–љ—Г, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–µ
–њ—Л–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –љ–∞ —В–µ–њ–ї—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ —Ж–≤–µ—В—Л. –Т–Њ—В –Є –≤—Б–µ,
—З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –Є—Е –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є - –≥—А—П–Ј–љ–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ –Є —Ж–≤–µ—В—Л. –° —Н—В–Є—Е –њ–Њ—А
–Ј–і–µ—Б—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і—Г—В —Ж–≤–µ—В—Л, —В–≤–µ—А–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–µ–±–µ –°–Њ–љ—П. –Ш –њ—А–∞–≤–і–∞, –µ–і–≤–∞
–≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П –Љ–Є–љ—Г—В–Ї–∞, –°–Њ–љ—П —В—Г—В –ґ–µ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г—О
–њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Б –ї—О–±—Л–Љ, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –њ—А–Њ—Б—В–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –±—Г–Ї–µ—В–Є–Ї–Њ–Љ, —Г–±–Є—А–∞–ї–∞ –Ј–∞—Б–Њ—Е—И–Є–µ
—Б—В–µ–±–ї–Є, –≤–Њ–і—А—Г–ґ–∞–ї–∞ —Б–≤–µ–ґ–Є–µ, –љ–µ –і–∞–≤–∞—П –Њ–±–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–є —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–µ. –Ґ–∞–Ї
–≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ - –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ,
–Є—Б—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ–ї—М –Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ
–Љ–µ—Б—В–Њ. –Ґ—Г—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ —Б –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–Є—Б–Ї–Њ–є –≤ –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–µ
—Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ: –Њ—В—З–µ–≥–Њ –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –Ї—А–∞—О
–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, —Г —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞
—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –ї–µ–ґ–∞—В —Ж–≤–µ—В—Л? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ
–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –Є –Ј–і–µ—Б—М –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –±—А–Њ—Б–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–і–µ–ї—М–љ—Г—О –±–Њ–Љ–±—Г? –Ш–ї–Є
–≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ —Б –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ—З—М—О, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ—А–Њ—Б—В–Њ
—Б—В–Њ—П–ї–∞ –±–∞—А—А–Є–Ї–∞–і–∞, –Є —И–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—Г–ї—П —Г–±–Є–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Њ–ґ–і–µ–є? –Э–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞! –Т–µ–і—М
–љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –ґ–µ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –ї—О–і–µ–є –ї–Є—И—М –Ј–∞ –Њ–і–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Г–±–Є–ї–Є,
–љ–µ —Б–Њ–ї–≥–∞–ї–Є, –љ–µ –њ—А–µ–і–∞–ї–Є; –ї—О–і–µ–є, –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В —Б –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М —Ж–µ–ї—М—О -
–ї—О–±–Є—В—М –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г; –ї—О–і–µ–є, —З—М—П –њ–Њ–ї—М–Ј–∞ - –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ—В
–њ–µ—А–µ–≥–љ–Њ—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є. –Э–Њ
–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–і—Л –ї–Є—И—М –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –≤–Є–і–љ–Њ,
—В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Ї—Г —Ж–≤–µ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А—П–і–∞.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –°–Њ–љ–µ –≤—Б–µ —В—А—Г–і–љ–µ–µ –Є —В—А—Г–і–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–µ–±–µ
–Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є—О–љ—П –Є—Е –≤—Л–њ–Є—Б–∞–ї–Є, –Њ–љ–∞ —В—Г—В –ґ–µ –і–∞–ї–∞ –≤ –†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–µ
—В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г "–£—И–ї–∞ –≤ –і–µ–Ї—А–µ—В" –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Ї —В–µ—В–µ –°–∞—И–µ.
-–Ю–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Ш–Є—Б—Г—Б–Є–Ї, - –≤—Б–њ–ї–µ—Б–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї—П—З–Ї–∞. - –Э—Г —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є—И—М,
–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є, –≤–Є–ґ—Г, –љ–µ–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–∞—В—М—Б—П. –Т–µ–і—М —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–∞ –±—Л –Ї–Њ –Љ–љ–µ. -
–Ґ–µ—В—П –°–∞—И–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ –љ–∞ —А—Г–Ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. - –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –і–Њ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ. –Ъ–∞–Ї
–Ј–≤–∞—В—М-—В–Њ?
-–Ц–µ–љ—П.
-–Ц–µ–љ—П, –Ц–µ–љ—П, - –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞ –њ—А–Њ–і–∞–≤—Й–Є—Ж–∞. - –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, –Ј–љ–∞—З–Є—В, - –Є —В—Г—В
–Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞–ї–∞ –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г. - –Я–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, –Ї–∞–Ї –ґ–µ - –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, –∞ –њ–Њ –Њ—В—Ж—Г?
-–Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–Є—З, - —В–Є—Е–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –°–Њ–љ—П.
–Ґ—Г—В —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ –Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–∞.
-–І—В–Њ –ґ–µ, —Г–Љ–µ—А –Њ–љ, —З—В–Њ –ї–Є?
-–Я–Њ–≥–Є–±.
-–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Г—В–Њ–њ?.. - –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –≤–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞. –†–µ–±–µ–љ–Њ–Ї
–Ј–∞—Е–љ—Л–Ї–∞–ї. - –Р-—П-—П–є, –±–µ–і–∞-—В–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П...
–Ґ–∞–Ї –Є –њ—А–Є—З–Є—В–∞–ї–∞, —Б–ї—Г—И–∞—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Љ–∞–Љ—Л. –С–µ–і–љ–∞—П —В—Л, –±–µ–і–љ–∞—П,
—З—В–Њ –ґ–µ –Њ–љ–Є, –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, —Б —Г–Љ–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є? –Ю–і–Є–љ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ, –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–і –≤–Њ–і—Г.
–Ъ—Г–і–∞ –ґ–µ —В—Л —В–µ–њ–µ—А—М? –Э—Г –љ–µ—В, —Б–µ–є—З–∞—Б-—В–Њ —П —В–µ–±—П –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Й—Г, –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–Є,
–Њ–Ї–ї–µ–Љ–∞–µ–Љ—Б—П —Е–Њ—В—М, —П —В–µ–±–µ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ - –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —Б–Њ—А—В—Г. –Э–µ –Ї–Њ—А–Љ–Є—И—М,
–њ–Њ–і–Є, –і–∞ –Є –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Њ, –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ, –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В—Б—П. –Р—Е —В—Л, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Є –Њ–љ-—В–Њ,
–љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є, –Ј–∞ —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і—М–±—Г –њ—А–Є–љ—П–ї, –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ.
–І–µ—А–µ–Ј –і–µ–љ—М –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –і–Њ–Љ–µ, –Є —А–∞—Б–њ–∞—И–Њ–љ–Њ—З–Ї–Є, –Є –і–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Ї–∞, –Є
–Ї–Њ–ї—П—Б–Њ—З–Ї–∞, –Є –≤—А–∞—З–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ.
-–Р—Е —В—Л, –Љ–Њ–є –њ–Є—В–µ—А—Б–Ї–Є–є, - —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—П
–Ї—Г–њ–∞—В—М —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –ї–µ—В–Њ. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –≤ —А–µ–і–Ї—Г—О —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О –њ–∞—Г–Ј—Г,
—В–µ—В—П –°–∞—И–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –°–Њ–љ—О:
-–Ъ—В–Њ –ґ–µ –Њ—В–µ—Ж –µ–Љ—Г?
-–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, - —В–≤–µ—А–і–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –°–Њ–љ—П.
-–Э—Г –і–∞, –љ—Г –і–∞, - –і—Г–Љ–∞—П –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞.
–£–ґ –Њ–љ–∞-—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–љ—П–ї–∞,
–≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—М—Ж–∞. –•–Њ—В—П –Є –ґ–∞–ї–Ї–Њ –µ–є –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і
–Њ–і–љ–Њ–є –Ї—А—Л—И–µ–є –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є. –Ю–љ–∞ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ
–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –°–Њ–љ—О, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ґ–∞–Ї —Б–Љ–Њ—В—А—П—В
–љ–∞ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–≤—И–Є–є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –і–∞–≤–љ–Є–µ, –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–µ
–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П.
67
–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –ї–µ–ґ–∞ –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г "–Т—А–µ–Љ—П" –Є
–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В –њ—А–∞–≤ - —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞. –Э–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ
–Њ–њ—П—В—М –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≥—А—Г–Ј–љ–Њ–µ, —Б –і–≤–Њ–є–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–Љ –ї–Є—Ж–Њ. –С—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ —З—В–Њ-—В–Њ
–љ–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–µ, –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ. –Ю—А–∞—В–Њ—А –Ј–∞–≤–Є—Б –љ–∞–і –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є
–њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М—О, –Њ—В–і–µ–ї—П–≤—И–µ–є –µ–≥–Њ –Њ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —А–µ—З–Є, –Є –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є—О
- –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї, –≤—Б–µ –ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –љ–µ –Њ—В–њ–∞–ї–Њ –ї–Є —З–µ–≥–Њ –Є–ї–Є, –љ–µ –і–∞–є
–С–Њ–≥, –Њ—В–Ї–ї–µ–Є–ї–Њ—Б—М. –Т–Њ—В —В–∞–Ї –ґ–µ –Є –Њ–љ –і–µ—А–≥–∞–ї —Б–µ–±—П –Ј–∞ —Г—Б –≤ –Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ
–њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞, —Б–ї–µ–і—Г—П –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Ю–љ –Є —В–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ
—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї - –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –љ–µ—З—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–µ. –£–ґ–µ
—В–Њ–≥–і–∞ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є, –љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–є –ї–Є—З–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б.
–°–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–Љ
—Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї? –Ф–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Я–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є
–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —Б–≤–µ—А—Е—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є
–љ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—Б—И–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –љ–µ–Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А—В, —Д—М—О–Є—В—М
- –Є –≤–Ј–Љ—Л–ї –≤ –њ–Њ–і–љ–µ–±–µ—Б—М–µ. –Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г.
–Р —З—В–Њ –ґ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ? –Ц–Є–≤–µ—В –Є –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–µ—В. –Ш—Б—З–µ–Ј —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А -
–њ–ї–µ–≤–∞—В—М, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і - –љ—Г –Є —З—В–Њ, –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≤–µ–і—Г—В —Б–µ–±—П —В–∞–Ї,
–±—Г–і—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–∞–і–Њ. –Р —З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ? –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤
–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ
—Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ —Б–ї—Г—И–∞–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –Њ–Ј–µ—А–Њ, –≥–і–µ-—В–Њ
–њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і, –∞ –≥–і–µ-—В–Њ, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–Њ–≤–∞—П
–Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П. –І–µ—А—В –њ–Њ–і–µ—А–Є, –µ—Б–ї–Є –Љ–∞—И–Є–љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є
–љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є—В—М –µ–µ, —В–Њ –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥ —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є
–Љ–Њ–ґ–µ—В! –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–ї—Г—З–∞–є –≤ –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–µ. –Э–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤—Б–µ —Н—В–Њ
–њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Л–Љ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ? –Э–µ—В, –≤—А—П–і –ї–Є. –Ч–∞—З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ —В–Њ–≥–і–∞
–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є —В–∞–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–µ—Б—П—Ж –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ
—Б–±–µ—А–Ї–∞—Б—Б—Л, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Є—И–Ї–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П.
–†—П–і–Њ–Љ –≤ –Ї—А–µ—Б–ї–µ —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Ґ–∞–љ—П –Є –≤—П–Ј–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —Б–≤–Є—В–µ—А. –Ґ–µ–њ–ї–Њ,
—Г—О—В–љ–Њ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ц–Є–≤–Є, —А–∞–і—Г–є—Б—П, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–є –і–Њ–ї–≥, –Њ—В–і—Л—Е–∞–є. –Ч–Є–Љ–Њ–є –≤ –У–∞–≥—А—Л,
–ї–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –≤ –ї–µ—Б–∞ –Є –±–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ю–љ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є,
–Њ–љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ, —З—В–Њ–±—Л... –°—В—А–∞–љ–љ–∞—П, –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ. –Ю–љ
—А–Њ–ґ–і–µ–љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П. –Э–µ—В, –љ–µ —А–∞–±—Б–Ї–Є, –љ–µ –њ–Њ–і —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ, –љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ,
—Б –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О, —Б –≤–µ—А–Њ–є –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—В—Г –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞. –Ю–љ
—Б–Њ–Ј–і–∞–љ –і–ї—П –і—А—Г–ґ–±—Л —Б —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –Њ—В–і–∞—В—М—Б—П
—В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ–Њ–і–љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ
–Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б —А–Є—Б–Ї–Њ–Љ, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –∞
–њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–і—В–Є –Є –Љ–Њ–ї—З–∞, –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤, –Њ–і–љ–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ —В—Л –љ—Г–ґ–µ–љ,
–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ, –њ–Њ–ї–µ–Ј–µ–љ. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –њ—А–Њ—И–ї–Њ? –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–љ
–≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є—Б–Ї–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–Њ –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї. –Т–µ—А–љ–µ–µ, –љ–∞—И–µ–ї –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ–і
—Б–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –∞–ї—М–Љ–∞-–Љ–∞—В–µ—А, –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –≤ –і—А—Г–Ј—М—П –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї. –Ц–µ–ї–∞–ї, –Љ–µ—З—В–∞–ї, –љ–Њ
–љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї. –Ф–∞ –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї... –≠—В–Њ—В –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ –љ–µ
–њ–Њ–і–њ—Г—Б–Ї–∞–ї, –≤—Б–µ —Б–∞–Љ, —Б–∞–Љ. –Р –Љ–Њ–≥ –±—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Є—Б—В–љ–Є..
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤ –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є
—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞, –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±–Њ–ґ–≥–ї–Њ. –Т–Њ—В –Њ–љ–Њ,
–њ—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ—В—Б—П, –≤—Л–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –Є —Б–њ–∞—Б–µ—В. –Р –≤—Л—И–ї–Њ –≤—Б–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В - –љ–µ
—А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П, –љ–µ –≤—Л–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї, –∞ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –љ–µ –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–Є–ї.
-–Ґ–µ–±–µ –њ–Њ—А–∞, - –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ґ–∞–љ—П, –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–і–Ї—Г –њ–Њ–≥–Њ–і—Л.
–Э–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ —Б –Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –ї–Є—Ж–µ–љ–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —В—А—Г–±–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ,
—Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –≥–Њ—А–±–∞—В–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, —Б –Ї–Њ—Б—Л–Љ–Є —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є
–≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞ –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ —Б–µ—А—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –Ч–∞—П—З—М–µ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞.
-"–Ч–∞–≤—В—А–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –љ–∞ –Э–µ–≤–µ...", - –≤–µ—Й–∞–ї –і–Є–Ї—В–Њ—А.
-–Т–Њ–Ј—М–Љ–Є –Ј–Њ–љ—В, - —Г–ґ–µ –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–µ–є –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ґ–∞–љ—П.
–Ю–љ –љ–µ –≥–ї—П–і—П –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї –µ–µ –Є –≤—Л—И–µ–ї –≤ –љ–Њ—З—М.
68
–Р—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ—Л —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—В–Њ–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞–Љ–Є. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ
—Б–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ, –љ–∞ –љ–µ–±–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–µ-—В—А–Є —П—А–Ї–Є—Е
–Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –љ–Њ –љ–Њ—З—М –µ—Й–µ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞, –Є –≤–≤–µ—А—Е—Г –±–ї—Г–ґ–і–∞—О—В
–±–µ–ї–µ—Б—Л–µ –Ї–≤–∞–љ—В—Л —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞, –Є –≤–Є–і–љ—Л –Ї—Г—З–µ–≤—Л–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ —Б –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ—Л–Љ–Є
–±–ї–µ–і–љ–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–µ—А—И–Є–љ–∞–Љ–Є. –Я—А–Є—А–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–µ—В, –≥—А–∞–і–Є–µ–љ—В—Л –≤—Л—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—О—В—Б—П,
–љ–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Љ–Њ–≤. –Я—А–Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ј–∞
—З–∞—Б –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–≤–µ—В –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –Є –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П —В–µ–Љ–µ–љ—М - –љ–Њ—З—М
–њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞.
–Ю–љ –Њ—З–љ—Г–ї—Б—П —З–∞—Б–∞ –і–≤–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—И–Ї–µ –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ –Є —Б
—Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–Њ—З—М. –Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Ч–µ–Љ–ї–Є
—В—М–Љ–∞ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞. –Ъ—Г—Б–Њ–Ї –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л, –Њ–±—А–∞–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ—А—Л–Љ–Є —В—О—А–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є
–њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞–Љ–Є, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П, –∞ —В—М–Љ–∞ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞. –Я–Њ–і
–љ–Њ–≥–∞–Љ–Є —Г —Б—В–µ–љ—Л –≤–∞–ї—П–ї—Б—П —Б—В–∞—А—Л–є —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є —Г—В—О–≥, –∞ –љ–∞–і –љ–Є–Љ –≤ —Б—В–µ–љ–µ –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–Љ
–Є–ї–Є —З–µ–Љ-—В–Њ –Њ—Б—В—А—Л–Љ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Ж–∞—А–∞–њ–∞–љ–∞ —Б—Е–µ–Љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞,
–±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ—Г—Б, —З–µ–Љ –љ–∞ —А–∞–Ї–µ—В—Г, –Ї–∞–Ї –µ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≥–Є—А–і–Њ–≤—Ж—Л
—В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤.
–Т—А–µ–Љ—П –Ј–∞—Б—В—Л–ї–Њ. –С—Г–і—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ–љ —Б—В–Њ—П–ї –≤ —Г—О—В–љ–Њ–Љ —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–Є–Ї–µ
–Є –њ—А–Њ—Й–∞–ї—Б—П —Б –Ш–ї—М–µ–є –Ш–ї—М–Є—З–µ–Љ. –І—Г—В—М –њ–Њ–Њ–і–∞–ї—М, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞ —А—Г–ї—М,
–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, –∞ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–Љ —Б–Є–і–µ–љ—М–µ —Б–Є–і–µ–ї —А–∞—Б—Д—Г—Д—Л—А–µ–љ–љ—Л–є, –≤
—З–µ—А–љ–Њ–Љ —Д—А–∞–Ї–µ, –§–µ–Њ—Д–∞–љ –Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–є—Б–Ї–Є–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є...
-–°–µ—А–µ–ґ–∞, –њ–µ—А–µ–і–∞–є –°–Њ–љ–µ... - –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З –Ј–∞–Љ—П–ї—Б—П. - –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ –љ–∞–і–Њ,
–Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –љ–∞–і–Њ... –Я–Њ—В–Њ–Љ...
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З, —В–Њ—З–љ–µ–µ,
–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Н–Ї—Б–≥—Г–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–љ–µ—И–љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї
—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ч–∞—Б—В–∞–≤—Л. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –ї–Њ–±, —Б–µ–і–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞,
–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –ґ–Є–ї–Є—Б—В—Л–µ —А—Г–Ї–Є. –Э–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї. –І—В–Њ-—В–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ. –£—З–µ–љ–Є–Ї
–≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Г–Ї—А–∞–і–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї. –Ш—Б—З–µ–Ј–ї–∞ –і—Г—А–∞—Ж–Ї–∞—П,
–Є–і–Є–Њ—В—Б–Ї–∞—П —З–µ—А—В–Њ—З–Ї–∞. –Т –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –Ґ–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±–ї–µ—Б–Ї —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–Љ–∞–љ–∞,
—В–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –Љ–∞–љ–Є–≤—И–Є–є –£—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Є —В–∞–Ї –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ
–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є.
–Ю–љ —Б–ї—Г—И–∞–ї –£—З–Є—В–µ–ї—П –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М—Б—П. –Т—Б–µ —Б–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –≤
—В—Г–≥–Њ–є –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ—Л–є –Ї–ї—Г–±–Њ–Ї –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–Є—В–µ–є. –¶–µ–љ—В—А–∞–є, –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ,
–±–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—З–µ—В –Є –Ы—Г–љ–∞. –Т—Б–µ —Й–µ—В–Є–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —Ж–µ–њ–ї—П–ї–Њ—Б—М, —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї–Њ.
–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ы—Г–љ–∞, –±–µ–Ј–і–∞—А–љ—Л–є –ї—Г–љ–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї, –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –≤–µ—П–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–Љ
–Љ–Є—Б—В–Є—Ж–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Ю–љ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є ; –і–µ–Љ–Њ–љ—Л, —З–µ—А—В–Њ–≤—Й–Є–љ–∞, –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–∞—П
–њ—Г—Б—В–Њ—В–∞
–≤—Б–µ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї–Є. –Ю–љ —Н—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –∞–Ј–Є–∞—В—Й–Є–љ–Њ–є, –±–µ–Ј–і–∞—А–љ—Л–Љ —Б–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞,
–њ–Є—Й–µ–є –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞. –†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–≥ –Њ–љ, –≤–ї–∞—Б—В–µ–ї–Є–љ –Љ–Є—А–∞, –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В–µ–ї—М
–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї—Г–і–µ—Б–љ–Є–Ї —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–µ–є—И–Є—Е —З–∞—Б—В–Є—Ж, –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М
–ї–ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–∞–Ї—Г—Г–Љ–∞ –Є –µ—Й–µ –С–Њ–≥ –Ј–љ–∞–µ—В —З–µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—В–і–∞—В—М –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –љ–∞
–Њ—В–Ї—Г–њ –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ? –Э–µ—В, –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –љ–µ—В. –≠—В–Њ —Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П
—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ч–∞—З–µ–Љ —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М
–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ? –Ч–∞—З–µ–Љ –Љ–Њ–Ј–≥–Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О? –Ф–ї—П –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞–і—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ? –Ш–ї–Є –Є–≥—А–∞ —Г–Љ–∞, –њ—П—В–љ–∞—И–Ї–Є –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤? –Э–µ—В
—Г–ґ, —З–µ—А—В–∞ —Б –і–≤–∞, —Н—В–Њ –Њ–љ –і–≤–Є–≥–∞–µ—В –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л–Љ–Є —Ж–Є—Д—А–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –≤—Л–є–і–µ—В
–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Є–Ј —Е–∞–Њ—Б–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –£—З–Є—В–µ–ї—М.
–Ф–∞, –£—З–Є—В–µ–ї—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П. –Ю–љ –Є —Б–∞–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї—Б—П: "–ѓ —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ, –°–µ—А–µ–ґ–∞," -
–Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П, –ґ–∞–ї–Ї–Њ, —Б –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ. –С—Л–ї–Њ
—П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–і –£—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞–≤–Є—Б–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —В—П–ґ–Ї–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —Б—В–∞—А–Њ–µ,
–љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Є —В–µ–њ–µ—А—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ
—А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М, –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є–і–µ—В
—А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В.
-–Ч–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б–∞, - –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П
–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ—В –≥–∞–Ј–µ—В—Л –§–µ–Њ—Д–∞–љ. - –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–∞–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –°–Є–љ–µ–Ї—Г—А–∞!
-–Э—Г –њ—А–Њ—Й–∞–є, –°–µ—А–µ–ґ–∞, - –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –≤—П–ї–Њ –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ
—А—Г–Ї–∞–≤–Њ–Љ –Є –њ–Њ—И–µ–ї –Ї –Љ–∞—И–Є–љ–µ.
–Я—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—М –±–Њ—В–∞, –µ—Й–µ —А–∞–Ј
–Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–є—Б–Ї–Є–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ –Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Г –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї. –Ш–ї–Є –љ–µ —В–∞–Ї. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –µ—Й–µ –њ–Њ–і–±–µ–≥–∞–ї–∞ –£—А—Б–∞,
–і–∞—А–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ—М–µ –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ї—Г—Б–∞ –±—Г–Ї–µ—В, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ
–Ї–∞—И—В–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –≥–ї–∞–і–Є–ї–∞ –±—А–Є—В—Г—О —Й–µ–Ї—Г, –њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї–∞—Б—М —Г–њ—А—Г–≥–Є–Љ, –≤–µ—З–љ–Њ
–Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ –ї–ґ–Є–≤–Њ–µ –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ–µ
—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ю–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ, –≤–љ–µ –ї—О–і–µ–є, –і–Њ–Љ–Њ–≤, –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤. –Ю—В—Б—О–і–∞, –Є–Ј–≤–љ–µ,
–Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—М, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Ј–∞ —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М—Б—П. –°—Г—Е–Є–µ
–њ—Г—Б—В—Л–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј –і–ї–Є–љ –Є —И–Є—А–Є–љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ґ—Г—Е–ї—Л–µ –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–µ –ї–Є—Б—В—М—П –Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М
–≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –љ–µ –Ј–љ–∞—П, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–∞–і–∞—В—М. –•–Њ—В—М –±—Л —З—В–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ! –Т—Б–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ, –Є –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М. –Т
–Љ–Є—А–µ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г, –і–∞–ґ–µ
–Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ—Л–є —Б–≤–µ—В —Б–Ї–Њ—А—З–Є–ї—Б—П, —Б–Ї—Г–Ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –±–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ
–≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ.
–Ч–∞–љ—Л–ї–∞ –Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–∞ —Б–њ–Є–љ–∞. –Ф–∞–ї—М—И–µ –ї–µ–ґ–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ, –Љ–Њ–≥–ї–Њ
–њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї–Є—В—М. –Ю–љ –≤—Л–±—А–∞–ї—Б—П –љ–∞—А—Г–ґ—Г. –Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї, –њ—Г—В–∞—П—Б—М, –±–ї—Г–ґ–і–∞—П, –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј
–ї–∞–±–Є—А–Є–љ—В–∞ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ-–Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї
–≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Т —Б—Г–Љ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –µ–і–≤–∞
—Г–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Ж–≤–µ—В–∞. –°–ї–µ–≤–∞ –Њ–±—И–∞—А–њ–∞–љ–љ–∞—П –±–Њ—З–Ї–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ-–Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–Є,
—Б–њ—А–∞–≤–∞ —Н–ї–µ–≥–∞–љ—В–љ–Њ–µ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞—Б–∞–і,
–ґ–µ–ї—В–Њ–≤–∞—В—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –Ї—А—Л—И–∞, –∞–љ—В–µ–љ–љ–∞ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П, –∞ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є, –њ—А—П–Љ–Њ
–њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г, –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–є –Ї—Г–њ–Њ–ї –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є—П. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г –±—Л–ї–Њ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ї—А—Л—В–Њ
–≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –≤—Г–∞–ї—М—О –±–µ–ї–Њ–є –љ–Њ—З–Є. –°–µ—А–і—Ж–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–љ—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М, —Б–µ–є—З–∞—Б
–µ–Љ—Г –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ –Є –Ј–∞–±—Л—В–Њ–µ —Б–µ–љ—В–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ю–љ –±—Л–ї
—Г–≤–µ—А–µ–љ - –њ—А–Њ–є–і–Є –≤–њ–µ—А–µ–і —И–∞–≥–Њ–≤ —Б—В–Њ, –Є —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В—Б—П —Б—В–∞—А–∞—П —А–Њ–і–љ–∞—П
–њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Б —Б–µ—А–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ-–Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ, —Б –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ
–і–Њ–Љ–Њ–Љ, —Б –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М—О –∞–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–њ–∞.
69
–Т–Њ—В —Г–ґ–µ –љ–µ–і–µ–ї—О –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –°–Њ—Д—М—О –Ш–ї—М–Є–љ–Є—З–љ—Г –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ—Г.
–Ю–љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –•–∞–ї—В—Г—А–Є–љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–Љ—М –≤ –≤–µ—В—Е–Њ–є –Њ–±—И–∞—А–њ–∞–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ,
–љ—Л–љ–µ –љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–є –Є–Љ—П "–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є", –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є
—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Ж–µ–љ—В—А—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –° –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ
—В—А—Г–і–Њ–Љ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –≤–µ—Б—М —Б–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤
–Ј–∞–љ—П–ї –Ї–Њ–є–Ї—Г –≤ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ –ї—О–Ї—Б –љ–∞ –і–≤—Г—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≥–Њ—А—П—З–µ–є
–≤–Њ–і—Л, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—Г–∞–ї–µ—В–∞ –Є –і—Г—И–∞ –≤ –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ
–Њ–Ї–љ–Њ —Б –≤–Є–і–Њ–Љ –љ–∞ –≥–ї—Г—Е–Њ–є —Б–µ—А—Л–є –і–≤–Њ—А, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М
–њ—А–Њ—В—П–ґ–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е. –Ґ–Њ –±—Л–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –ї—Л—Б–µ—О—Й–Є–µ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Л
–љ–∞—Г–Ї - —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–є, –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–є –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е
–і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї —Б—Г–±–±–Њ—В–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤
—Б—Е–ї—Л–љ—Г–ї–∞, –Є –Њ–њ—Г—Б—В–µ–≤—И–Є–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –і–≤—Г—Е–і–љ–µ–≤–љ—Л–µ —В—Г—А–Є—Б—В—Л. –≠—В–Є —Г–і–µ—А–ґ—Г
–љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є. –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–µ, –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ, –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–Њ–є –Є
–Њ–і–µ–ґ–Ї–Њ–є, –њ–Є–ї–Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ.
-–Ю—В—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –њ—М–µ—В–µ? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ —Б–Њ—Б–µ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г–ї
–≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О —Д–Њ—А—В–Њ—З–Ї—Г –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –ї–Є—В—А–∞ –њ–Њ—А—В–≤–µ–є–љ–∞ "–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј" –≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Ї—Г —Б
–±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А—Ж–µ–Љ.
-–Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П, - –њ—А–Њ—Б–ї–µ–Ј–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–∞–≤—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї, –Є –µ–≥–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј
—Б—В–Њ—И–љ–Є–ї–Њ –≤ –Њ–Ї–љ–Њ.
–Т –љ–Њ–Љ–µ—А–µ –Ї–Є—Б–ї–Њ –Ј–∞–њ–∞—Е–ї–Њ –ґ–µ–ї—Г–і–Њ—З–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ї–Њ–Љ, –Є –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤—Л—И–µ–ї –≤
–Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А. –£–Ј–Ї–Є–є, –Ї—А–∞—И–µ–љ—Л–є –і–Њ –њ–ї–µ—З–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і –≥—Г–і–µ–ї —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ–Є
—Д–∞–љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є. –Э–∞—А–Њ–і –≥—Г–ї—П–ї. –Ь–Є–Љ–Њ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М
–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–љ—Л—А—П–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ј–≤–µ–љ–∞, –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ –±–µ–≥–∞–ї–∞
–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А —Н—В–∞–ґ–∞ —Б —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤–∞—Д–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ–Љ –Є –љ–∞ —Е–Њ–і—Г
–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М: "–Э—Г, –≤–µ—А—В–µ–њ, —Б—Г—Й–Є–є –≤–µ—А—В–µ–њ". –Ю–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ - –љ—Г–Љ–µ—А–∞! –Я–Њ —Б–ї—Г—Е–∞–Љ,
–Ј–і–µ—Б—М –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ—Г–Љ–µ—А–∞ –Є, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –≤
–љ–Њ–Љ–µ—А–∞—Е –ї—О–Ї—Б –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ї–Њ—Б—Л–µ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г—И–Ї–Є, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л
–і–ї—П –і–µ–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Г –Њ
–і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ "–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є". –Ф–∞ –Љ–∞–ї–Њ –ї–Є –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ.
–Ю–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї —З–µ—А–µ–Ј —З–µ—А–љ–Њ–µ –≥–Њ—А–ї–Њ –љ–∞–ї–µ–≤–Њ, –Љ–Є–Љ–Њ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—З–Є–Ї–∞, –≥–і–µ
—В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞–ї–∞ —В–µ—В—П –°–∞—И–∞, –µ—Й–µ –ї–µ–≤–µ–µ, –Ї –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –Ї –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤—Г –±–µ–ї–Њ–є –љ–Њ—З–Є,
–≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –љ–µ–±—Г –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞
–ї–Є—И—М —Г—Б–Є–ї–Є–ї–∞ –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤–µ—Б–µ–ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ. –У–і–µ –µ–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М? –Ъ–∞–Ї?
–У–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ –≤—Л—А–Њ—Б, —А–∞—Б–њ—Г—Е –Є –љ–∞–Љ–µ—А—В–≤–Њ –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–ї –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т
–≥–Њ—А—Б–њ—А–∞–≤–Ї–µ –µ–Љ—Г –і–∞–ї–Є –∞–і—А–µ—Б–∞ —В—А–µ—Е –°–Њ—Д–Є–є –Ш–ї—М–Є–љ–Є—И–µ–љ. –Ю–і–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –і–∞–≤–љ–Њ
–њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А–Ї–Њ–є, –∞ –і–≤–µ –і—А—Г–≥–Є—Е, —Б –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Є —Б –Ъ—Г–њ—З–Є–љ–Њ,
–њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –Њ—В–њ–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ –і–µ–љ—М
–љ–∞–њ—А–Њ–ї–µ—В —Б–Є–і–µ–ї –≤ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ –Є –і—Г–Љ–∞–ї. –Ф–∞ —В–∞–Ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–њ–Њ—И–µ–ї –≤ –љ–Њ—З—М –Ї—Г–і–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –≥–ї—П–і—П—В. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ—Й–µ –і–µ–љ—М –Є –≤–і—А—Г–≥
–Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —В—П–љ–µ—В –љ–∞ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М. –Ф–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї
—Г –і–≤–µ—А–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞, —В—А–Є–ґ–і—Л —Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ - —Б—В–Њ—П–ї —Г —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –Є –≥–ї—П–і–µ–ї –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–љ –Є –љ–µ
–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–і —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–Њ—П–ї–Є –°–Њ–љ—П —Б –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є
–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М —В–µ—З–µ–љ–Є—П –Ґ–µ–Љ–љ–Њ–є. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б–Њ–±–∞—З–Є–є –љ—О—Е –≤–µ–ї –µ–≥–Њ –≤—Б–µ
–±–ї–Є–ґ–µ –Є –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г, –≥–і–µ –Њ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В –°–Њ–љ—О. –Р –≤–µ–і—М
–Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є –Љ–Є–Љ–Њ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –Њ–љ —В—Г–њ–Њ –≥–ї—П–і–µ–ї –љ–∞ –±—Г–Ї–µ—В–Є–Ї –ґ–Є–≤—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –љ–µ
—Г—В—А—Г–ґ–і–∞—П—Б—М –і–∞–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П.
–Ш –≤–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б, –≤—Л–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –њ—А–Њ–≤–Њ–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≥–∞—А–Њ–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –≤
–њ–Њ–ї-–≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є –љ–Њ—З–Є, –Њ–љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ–љ—П–ї - –Њ–љ–∞.
-–Ю–љ–∞! - –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –њ—Г–≥–∞—П –љ–Њ—З–љ—Л—Е —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Є —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П
—Б –Љ–µ—Б—В–∞, –љ–µ –±–µ–≥–Њ–Љ, –љ–Њ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–∞—П, –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –≤–∞–ґ–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М.
–Т—Б–µ —В–∞–Ї. –У–≤–Њ–Ј–і–Є–Ї–Є, —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—Б–Њ—Е—И–Є–µ, –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–њ–∞—А–љ–Њ –±—Г–Ї–≤–Њ–є "–•". –Р –≤–µ–і—М
–≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є —А–∞–Ј, –±—Л–ї–Є —В—О–ї—М–њ–∞–љ—Л. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞–ї –±—Г–Ї–µ—В–Є–Ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –њ—А–Є–і–µ—В
–µ—Й–µ. –Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–і–µ—В!
70
–Т —Н—В—Г –љ–Њ—З—М, –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є—О–љ—П, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є
–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–Љ–µ—А–Є–ї —И–Є—А–Є–љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є.
–Ф–≤–µ—Б—В–Є —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –њ—П—В—М –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —И–∞–≥–Њ–≤, –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ,
–њ—А–Њ–ї–µ–≥–ї–Њ –Њ—В —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –і–Њ –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А–і—О—А–∞. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ
—В–Њ—В –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –≤—А–µ–Љ—П —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М –Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В—Л
–њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–µ–є—З–∞—Б –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ
–Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞, —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, —В–∞–Ї –ї–Є —Н—В–Њ, –Є –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї, —В–Њ –њ—Г—Б—В—М –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В -
–Ј–∞—З–µ–Љ?
71
–Т –њ–Њ—В–µ—А—В–Њ–Љ –≤–µ–ї—М–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ, –љ–µ–±—А–Є—В—Л–є, —Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ,
—Е–Њ–Ј—П–Є–љ —В—А–µ—Е–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л —Б–Є–і–µ–ї –Ј–∞ –Ї—Г—Е–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –Њ–ґ–Є–і–∞—П, –Ї–Њ–≥–і–∞
–≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ —Б –і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –±—Г—В—Л–ї–Ї–Њ–є –≤–Њ–і–Ї–Є. –°—В–∞—А–Є–Ї
–Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Х—Й–µ –±—Л! –Я—А–Є–±—Л–ї —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї, –ї—О–±–Є–Љ–µ–є—И–Є–є —Б–Њ—Б–µ–і –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З,
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л—Е, —А–µ–і–Ї–Є—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤. –Ф–∞, –і–∞. –£–ґ –Њ–љ-—В–Њ –њ–Њ–≤–Є–і–∞–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ
–≤–µ–Ї—Г –≤—Б—П–Ї–Є—Е, –Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј —А—П–і–∞ –≤–Њ–љ. –Э–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –љ–µ
—Е–Њ—В–µ–ї —Б—В–∞–≤–Є—В—М —А—П–і–Њ–Љ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –і–Њ—Б–Ї—Г, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Г–Љ–∞ –Є –і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤. –Ш
–≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–і–∞–љ–Є–є.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –њ—А–Є–љ–µ—Б –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Г—О –≤ –≥–∞–Ј–µ—В—Г –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г, –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї —Б–Ї–Њ–≤—Л—А–љ—Г–ї
–∞–ї—О–Љ–Є–љ–Є–µ–≤—Г—О –њ—А–Њ–±–Ї—Г, –љ–∞–ї–Є–ї –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г, –Ї–∞–њ–љ—Г–ї —Б–µ–±–µ.
-–° –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—М–Є—Ж–µ–Љ, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
–Ш —В—Г—В –ґ–µ, –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ, –≤—Л–њ–Є–ї. –Ґ–Њ—В, –љ–µ –Љ–Њ—А—Й–∞—Б—М, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї
—Б—В–∞–Ї–∞–љ, —Г–њ–µ—А—Б—П –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –≤ –њ—И–µ–љ–Є—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П
—Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–µ, –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ, –Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Н—В–Њ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М,
–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і —Б–њ–Њ–ї–Ј –љ–Є–ґ–µ, –њ—А–∞–≤–µ–µ, –љ–∞ —Г–≥–Њ–ї —Б—В–Њ–ї–∞, –≥–і–µ —Б —Б—Г—Е–Є–Љ —И–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ
—А–∞—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л "–Т–µ—З–µ—А–Ї–∞". –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б–≤–µ—А–љ—Г—В—М –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ–µ
–Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ, –љ–Њ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–∞—П —И–∞–њ–Ї–∞ –Њ–њ—П—В—М –≤—Л–ї–µ–Ј–ї–∞ –љ–∞—А—Г–ґ—Г.
-"–Т–µ—З–µ—А–љ–Є–є –Ъ–Є–µ–≤", - –њ—А–Њ—З–µ–ї –≤—Б–ї—Г—Е –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї.
-–Т—Л –Ј–љ–∞–ї–Є?
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –љ–∞–њ—А—П–≥—Б—П, –∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї.
-–Э–µ-–µ—В? - —А–∞–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ—Б–µ–і, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–є. - –Ґ–∞–Ї
–љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ—А–∞–≤?!
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ—А–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–Є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї. –Х–Љ—Г
–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М—Б—П. –Ю–љ –µ–≥–Њ –Ј–∞–±—Л–ї
—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ.
-–°–Ї–∞–ґ–Є –±—Л—Б—В—А–µ–µ, - –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ "—В—Л" –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ.
–≠—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –Є —А–∞–љ—М—И–µ —Б –љ–Є–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї
–і–ї—П —Б–Њ—Б–µ–і–∞ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ –і–љ–Є –Є –≤–і—А—Г–≥ –Ї–∞—Б–∞–ї—Б—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
—А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї,
–Ї—В–Њ –µ—Б—В—М –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ "–≤—Л", –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Ј–≤–Є–љ—П—П—Б—М, —З–µ–Љ
–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞.
-–Э–µ —В–Њ–Љ–Є, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –Я–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, —Б–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ.
-–Ю–њ—П—В—М –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤! –Я—А–Є—З–µ–Љ –Ј–і–µ—Б—М –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤? - —В–µ–њ–µ—А—М –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤
–њ–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П. - –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ?
-–ѓ, —П... - –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–Њ –Ј–∞–Є–Ї–∞–ї—Б—П. - –ѓ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї –µ–≥–Њ,
—Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї. –Ю–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М.
-–Ч–∞—З–µ–Љ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В? - –≤—Б–µ –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
-–Ю–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В - —В–Њ –µ—Б—В—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В - –љ–Њ –Њ–љ —В—Г—В —В–∞–Ї–Њ–µ
–љ–∞–≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї... - –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –њ—А—Л–≥–∞–ї —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ. - –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ
—Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М, –Њ–љ –Њ—В —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є. –Ш –Ї—А–Њ–Љ–µ, –Ї–∞–Ї –±—Л –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ —П –≤—Л–ґ–Є–ї? –Т–µ–і—М –Њ–љ
–Љ–µ–љ—П –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї, –њ–Њ–Є–ї, –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї —Б –ї–Њ–ґ–µ—З–Ї–Є, –Є –Ь–∞—А—В—Г –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–ї, –Њ–љ–Є —Г –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є
–і–µ–ґ—Г—А–Є–ї–Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ —П –Љ–Њ–≥ –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З? –Э–µ
—Б–µ—А–і–Є—Б—М, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –Њ—В —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є...
-–І—В–Њ - –Њ—В –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є? - —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ —Б–Љ—Г—В–Є–ї—Б—П.
-–Я–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О... –Ю–љ —В—Г—В –њ–Њ—З–≤—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–ї.
–У–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –≤–µ–ї–µ–ї...
-–†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М?!
-–Ф–∞. –Т—Л, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, - —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Ь–∞—А–Є–є
–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞–ї–Є—В—М –µ—Й–µ –њ–Њ–ї—Б—В–∞–Ї–∞–љ—З–Є–Ї–∞ –Є
–≤—Л–њ–Є—В—М. –Ф–∞–≤–љ–Њ –ґ–µ –Њ–љ –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї! –•–Њ—А–Њ—И–Њ-—В–Њ –Ї–∞–Ї, –µ–ї–Ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ,
–њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–µ–Љ, –њ—Г—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –њ—Г—Б—В—М —Б–Њ—З–Є–љ—П–µ—В. –Х–Љ—Г –љ–µ—В—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –і–Њ
–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є, –Є —В–∞–Ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ! –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, –Њ–љ
–і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Е–∞. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –љ–∞—В—Г–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П.
-–Ф–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ –љ–∞–Љ, –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, - –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, –∞
—Б–∞–Љ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї: –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В –ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞ –Ь–∞—А—В–∞?
-–Р, - –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–Њ –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є. - –С–Њ–≥ —Б –љ–Є–Љ. –°–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ –Њ–і–љ–Њ:
—В—Л –Ј–љ–∞–ї?
-–Ю —З–µ–Љ? - –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї—Б—П –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
-–Э–µ –Љ—Г—З–∞–є –Љ–µ–љ—П, —Б–Ї–∞–ґ–Є —Б—В–∞—А–Є–Ї—Г —В–µ–њ–µ—А—М. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –љ–µ
—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –Њ—В—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –≤—Б–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В–∞–Љ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, - –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ
–њ–Њ–і–љ—П–ї –њ–Њ–±–ї–µ–Ї—И–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, - –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ?
–†–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї, –≤–µ—Б–µ–ї—Л–є, –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л–є. –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –≤–µ—Б—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ–±–Љ—П–Ї,
–Є –ї–Є—И—М –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –≤—Б—В–∞—В—М, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
-–£ –љ–µ–≥–Њ –Ї–ї—О—З, —Б–∞–Љ –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В.
–Э–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞, –≤ –њ–Њ–ї–Љ–Є–љ—Г—В—Л –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤.
–Ю–љ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г, –њ—А–Њ—И–µ–ї, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞, –Ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г, –і–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –Є –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П
–њ–Њ—В–Є—А–∞—В—М –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –ї–∞–і–Њ–љ—М.
-–° –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–∞—И—Г –≥—А–µ—И–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –≤—Б–µ –ґ–µ –њ—А–Є–≤—Б—В–∞–ї, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ, –љ–Њ
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ —Г—Б–∞–і–Є–ї –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ.
-–°–Є–і–Є—В–µ, —Б–Є–і–Є—В–µ, –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ—Л—З, –Њ—В–і—Л—Е–∞–є—В–µ. - –Ю–љ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї
–њ—И–µ–љ–Є—З–љ—Г—О –љ–∞–Ї–ї–µ–є–Ї–Њ–є –Ї —Б–µ–±–µ –Є —Ж—Л–Ї–љ—Г–ї: - –Э—Г, –Ї—Г–і–∞ —Н—В–Њ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П, –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ
–љ–∞–Љ —Б—Г—А—А–Њ–≥–∞—В —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М, —Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ, - –Є, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П,
—Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г, –Є—Б—З–µ–Ј, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ –њ—П—В–Є–Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–Љ
–Ї–Њ–љ—М—П–Ї–Њ–Љ. - –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і, —З–µ–≥–Њ –ґ–µ
—Б—В–µ—Б–љ—П—В—М—Б—П, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—В—М.
–Я–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –±—Г—Д–µ—В—Г, –Њ—В–Ї—А—Л–ї, - —В–∞–Љ, –Ї —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞, —Б—В–Њ—П–ї
–њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–є —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞—А–∞—Г–ї, - –≤–Ј—П–ї –њ–∞—А—Г, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П: "–Р—Е, –Ь–∞—А–Є–є
–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –∞—Е, –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В–∞–Ї?", –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Є —Б–µ–±–µ –љ–∞–ї–Є–ї, –љ–Њ –љ–µ
—Б–µ–ї —А—П–і–Њ–Љ, –∞ –Ј–∞–Љ–µ—А –≤ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–Є–Є, —З—Г—В—М —Б–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В.
-–І—В–Њ –ґ–µ, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —Б–≤–µ—А–Ї–љ—Г–ї –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, - –Ј–∞ –Њ–±—Й–µ–µ –і–µ–ї–Њ! - –Є —В—Г—В –ґ–µ
–≤—Л–њ–Є–ї.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Љ—А–∞—З–љ–Њ –≥–ї—П–і–µ–ї –≤ —Б—В–Њ–ї, –∞ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї —В—А—П—Б—Г—Й—Г—О—Б—П
–≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —В–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї, –Ї—А—П—Е—В—П,
–њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є —А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—Б—Г—И–Є–ї —А—О–Љ–Ї—Г. –Т–і—А—Г–≥ –Ј–∞–Ї–∞—З–∞–ї—Б—П, —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є
—З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї. –Т–Њ–≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є
–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ, –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є –љ–Є—В—А–Њ–≥–ї–Є—Ж–µ—А–Є–љ –Є
–Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї —Б–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤–µ—В—Е–Њ–Љ—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г.
-–Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ, - –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, - —Б—В–∞—А–Є–Ї –µ—Й–µ –Ї—А–µ–њ–µ–љ—М–Ї–Є–є,
–µ—Й–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ. –Т–Њ–љ, –≥–ї—П–і–Є, –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї. –Э—Г, –њ–Њ–ї–µ–ґ–Є, –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З,
–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —В—Л –љ–∞—И —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т–µ–і—М —П —В–µ–±—П —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М —В—Л –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ї
–Њ—В–µ—Ж. –Э—Г, –љ—Г, –≤—Л–њ–µ–є —В–∞–±–ї–µ—В–Ї—Г. –Я–Њ—Б–њ–Є —В—Г—В –њ–Њ–Ї–∞.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ—О, –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —И–µ–њ–љ—Г–ї:
-–Э—Г–ґ–љ–Њ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—М—Б—П, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, —Б—В–∞—А–Є–Ї –њ–ї–Њ—Е. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –µ—Б–ї–Є –Љ–µ—Б—П—Ж
–њ—А–Њ—В—П–љ–µ—В.
-–У–Љ-–Љ, - –љ–µ—В—А–µ–Ј–≤–Њ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї: - –Я—И–µ–ї –≤–Њ–љ!
-–Ґ—Г, —В—Г, —В—Г. –Ч–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —В–∞–Ї? –≠—В–Њ –≤ –≤–∞—Б –њ–∞–њ–µ–љ—М–Ї–∞ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –Я–µ—В—А
–Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ї–∞—З–љ—Г–ї—Б—П –Є —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞ –Ј–∞ –≥—А—Г–і–Ї–Є. –Х–Љ—Г –љ–µ
–њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В –Є–Љ—П –Њ—В—Ж–∞. –Ш –µ—Й–µ, —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П
–Љ—Л—Б–ї—М –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –Њ–љ –і–∞–ґ–µ —З—Г—В—М –≤—Б–ї—Г—Е –µ–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б, –љ–Њ –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П
–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П. –Э–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г —А—Г–Ї–∞ –Њ—Б–ї–∞–±–ї–∞, –Є —В—Г—В –ґ–µ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –≤—Л—А–≤–∞–ї—Б—П, –љ–∞ —Е–Њ–і—Г
–њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П—П –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї.
-–§—Г, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Ї–Њ—Б—В—О–Љ –≤–Њ—В –њ–Њ–Љ—П–ї–Є. –Т–Њ—В —В–∞–Ї
—А–∞—Б–њ–ї–∞—В–∞, –≤–Њ—В —В–∞–Ї –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –і—А—Г–Ј–µ–є. –Э–µ—В, –ї–≥—Г, –љ–µ –і—А—Г–Ј–µ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ —В–∞–Ї–Є
—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ...
-–Я—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В - –њ—А–Њ...
-–Ф–∞, —П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –≤–і—А—Г–≥ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П. - –ѓ,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В. –Ф–∞ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В, –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Л —В–∞–Љ, –Є–Ј–≤–Є–љ—П—О—Б—М, –≤ –І–µ—А–Љ–∞—И–љ—О
–ї–µ—В–∞–ї–Є, –љ–Њ—З–Є –љ–µ —Б–њ–∞–ї...
-–І–µ—А–Љ–∞—И–љ—О? - –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –љ–∞–≥–ї–Њ —Г—Е–Љ—Л–ї—М–љ—Г–ї—Б—П.
-–Ф–∞ —З—В–Њ –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П! –ѓ-—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, –±—Г–і—М—В–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л,
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –І—В–Њ —В–∞–Љ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ, –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ –і—А—П–љ—М
–±—Л–ї. –Ґ–∞–Ї, –њ—Г–љ–Ї—В–Є–Ї, –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є, —В–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –≤–Њ–љ –Ї–∞–Ї –≤—Л—И–ї–Њ! –Р? –Р —П
–≤–µ–і—М –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, –љ—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ—Б—М, —П –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –≤–∞—Б, –Є–±–Њ —Б–∞–Љ –≤–Є–і–µ–ї -
–С–µ–Ј–і–љ–∞! –Ґ–∞–Љ –≤–µ–і—М –Є –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–Њ—П –њ—А–Њ—И–ї–∞—П –Є –±—Г–і—Г—Й–∞—П –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–∞. –Ґ–∞–Ї–∞—П
—Б–Є–ї–Є—Й–∞, –∞? –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ! –Т—Л –ґ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–љ–Њ–њ–Њ—З–Ї—Г –љ–∞–ґ–∞–ї–Є, –∞ —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ?
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М! –£–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ. - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г
–Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–ї —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–µ–є, –∞ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –ґ–∞–ї–µ–ї, —З—В–Њ
–≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –Т–∞—Б—О –Є–Ј –Ї–ї–µ—В–Ї–Є. - –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ, –њ–Њ—А–∞ –Є –Ј–∞
–і–µ–ї–Њ –±—А–∞—В—М—Б—П.
-–•–≤–∞—В–Є—В, —П –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—О –љ–Є –Њ —З–µ–Љ —Б –≤–∞–Љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М.
-–≠, –љ–µ—В, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ, –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ–ґ–µ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П. -
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Ј–∞—Е—А–Њ–Љ–∞–ї —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞ –њ–Њ –Ї—Г—Е–љ–µ. - –Ъ—Г–і–∞ –ґ –≤—Л –±–µ–Ј –Љ–µ–љ—П —В–µ–њ–µ—А—М? –Т–Њ—В,
—Е–Њ—В—П –±—Л, –≥–і–µ –ґ–Є—В—М –±—Г–і–µ—В–µ?
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П.
-–Ф–∞, –і–∞. –Т—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Ї—Г-—В–Њ –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М –Ј–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—М—Ж–µ–Љ?
-–Ъ–∞–Ї –Ј–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ?
-–Ф–∞ –≤—Л —З—В–Њ –ґ–µ –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –≤–∞—Б –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –ґ–і—Г—В –љ–µ –і–Њ–ґ–і—Г—В—Б—П? –Ґ—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є
–њ–Њ–≥–Є–±, - –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Г–Ј—Л –Є–Ј—А–µ–Ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, -
–њ—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞. –Ґ–∞–Ї –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–њ—Л—В–Њ–≤
–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Э—Г, —В–∞–Љ —А–µ–±—П—В–∞ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ, –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—В–µ—Б—М, –і–Њ–≤–µ–і—Г—В
–Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–µ, –љ–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і—Г–Љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ...
-–Э–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –љ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є? - –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–ї—Л–ї—Б—П –Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞—З–Њ–Ї.
-–Э–∞—Б—В–Њ—П–ї, –≤–∞—И –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л–є —Б–ї—Г–≥–∞, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞
—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П. –Т–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–≤–∞—В–Њ. - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, –Є–Ј–≤–Є–љ—П—П—Б—М, –Њ–±–љ—П–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–µ
–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. - –•–Њ–Ј—П–Є–љ –ґ–Є–ї —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —В—А–µ–Ј–≤–µ–ї –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –Ф–ї—П —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –µ—Й–µ –≤—Л–њ–Є–ї —А—О–Љ–Ї—Г.
-–Т–Њ—В —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Є—А–Њ–≥–Є. –Э–µ—В —В–µ–њ–µ—А—М –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞, –Њ–і–Є–љ –≤—Л –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М. –ѓ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П—О—Б—М, –і–Њ —З–µ–≥–Њ —Г–і–Њ–±–љ–Њ –њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ –Є–Љ–µ—В—М. –Т—Л –ґ –Ї–∞–Ї –±—Л –Є –љ–µ –Њ–љ. –ѓ
–Є —Б–∞–Љ —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ—Л–≤–∞—О, –љ–∞–є—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, –Љ–Њ–Ј–≥–Є –і—Л—А—П–≤—Л–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В,
–њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В–µ, –∞? - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞–ї. - –Ь–Њ–ґ–µ—В, —А–µ—З–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М—Б—П –Є–ї–Є
–њ–Њ–ї–µ–Љ, –∞ –ї—Г—З—И–µ –µ—Й–µ - —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–ї–∞–≤–Њ–Љ, –∞?
-–Ч–∞—З–µ–Љ –≤–∞–Љ?
-–Я—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—Б—П, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—Б—П. –Т–Њ–љ –і–∞–ґ–µ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –Є —В–Њ—В
–Є–Љ–µ–µ—В, –∞ —П —З—В–Њ, —Е—Г–ґ–µ? - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П. - –Т—Л –ґ —Б–∞–Љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є,
–Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—Ж–Є—П. –Ш —В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ—А–≥–∞–љ—Л –љ–µ –і—А–µ–Љ–ї—О—В, –љ–∞–і–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В—М. –Ь–Њ–ґ–µ—В,
–Ј–∞–≤—В—А–∞ –Є —Б–Њ–±–µ—А–µ–Љ—Б—П?
-–Ъ—Г–і–∞?
-–Ъ–∞–Ї –Ї—Г–і–∞, –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О. –Ъ–Њ–љ—Д–µ—В–Ї–Є-
–±–∞—А–∞–љ–Њ—З–Ї–Є... - –Њ–њ–µ—А–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤.
–Ш –Ј–і–µ—Б—М –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е—Г —Г–і–∞—А–Є–ї –њ–Њ —Б—В–Њ–ї—Г, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –ї—О–±–Є–ї –і–µ–ї–∞—В—М
–Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З. –° –≥—А–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ –Є –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–Є—Б—М —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А—О–Љ–Ї–Є, –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞,
–њ—А–∞–≤–і–∞, —Г—Б—В–Њ—П–ї–∞, –∞ –≤–Њ—В –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —Б –Є—Б–њ—Г–≥—Г —Г—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –≤ –±—Г—Д–µ—В. –Т –і–≤–µ—А—П—Е
–њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–є –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З.
-–Т–Њ–љ! - –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П —Б–Њ—Б–µ–і–∞.
-–Ы–∞–і–љ–Њ, –ї–∞–і–љ–Њ, —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–є–і—Г. - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ—П–ї —Б –њ–Њ–ї–∞ –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Г—О
—Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–Њ–ґ–Ї—Г. - –Ь—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—М –њ–Њ—А—В–Є—В–µ. –Э—Г, —П –ґ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –ї–∞–і–љ–Њ,
—Б–њ–Є—И–µ–Љ, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—П—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞–і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ,
–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ, –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ.
-–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –љ–Є–Ј–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М,
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є —Г–і–∞—А–Є—В—М, —З–µ–≥–Њ —В–∞–Љ, –љ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Њ, –±–µ–є—В–µ. –≠—В–Њ —А–∞–љ—М—И–µ –Њ–љ –±—Л–ї –љ—Г–ґ–µ–љ,
–њ–Њ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М - —В–µ–њ–µ—А—М –Є –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —А–∞–љ–Њ –ї–Є? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –µ—Й–µ
—З–µ–Љ –њ—А–Є–≥–Њ–ґ—Г—Б—М? –Т–µ–і—М —В–µ–њ–µ—А—М –≤–∞–Љ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –љ–µ –≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б–µ
–≥—Г–ї—П—В—М —Б—А–µ–і–Є –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є,
—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞, –Ј–і–µ—Б—М —Г–ґ –Є —Г–і–∞–≤–Є—В—М-—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї
–њ–∞—Г–Ј—Г. - –Ч–і–µ—Б—М —Б—В—А–∞–љ–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤–∞—П, —Г–і–∞–≤—П—В, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ–µ—В, –љ–µ –Њ—Е–љ–µ—В.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ - —И—Г, –≤–µ—В–µ—А–Њ–Ї –њ–Њ —Б—В–µ–њ–Є, —Б–≤–µ–Ј—Г—В –≤–Њ –њ–Њ–ї–µ –Є —В–∞–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤—П—В.
–Ы–∞–і–љ–Њ, –ї–∞–і–љ–Њ, —Г—Е–Њ–ґ—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г - –њ—М—П–љ—Л–є –≤—Л –Є–ї–Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г –љ–µ
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ? –Э–µ—Г–ґ—В–Њ –µ—Й–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–µ—В–µ—Б—М, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –љ–µ—Г–ґ—В–Њ
–љ–µ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б—П –≤–∞—И–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ
–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ —И–µ—Б—В–µ—А–µ–љ–Ї–Є, –∞ —И–µ—Б—В–µ—А–µ–љ–Ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Е–Є—В—А–Њ—Г–Љ–љ—Л–є, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ
–љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ш –љ–µ —В–Њ –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е
–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤, –∞ –≤–Є–і–Є—В–µ –ї–Є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ, –љ—Г –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А,
–≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і. –Э–µ—В, —П –љ–µ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞—О –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л, –њ–∞—А–і–Њ–љ, –≤—А–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї —Б
–≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–Њ–Љ, –Ј–і–µ—Б—М –і—А—Г–≥–Њ–µ. –І—В–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ, –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ,
–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –љ–Њ–≤–Њ–µ. –Х—Й–µ —З—Г—В—М, –≥–ї—П–і–Є—И—М, –Є –≤—Л—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –љ–∞—А—Г–ґ—Г, –Ї –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ, –Ї
–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–∞–Љ, —Б—В–∞—А—В–∞–љ—Г–ї–Є –±—Л –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Ј –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ї
–і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—А–Њ—З–Є–Љ –Љ–Є—А–∞–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤—Л—И–ї–Њ! –Э–µ –≤—Л—И–ї–Њ, –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М
—И–Љ—П–Ї–љ—Г—В—М—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Є —В–∞–Љ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —В—П–љ–µ—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞, –і–µ—А–ґ–Є—В –њ–Њ–і –љ–∞—В—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Љ–Њ–ї, –њ–Њ–≥—Г–ї—П–є –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ,
–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Њ—В–і–Њ—Е–љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –њ–µ–љ–∞—В—Л, –≤ –≥–ї—Г—И—М, –Ї –Є—Б—В–Њ–Ї–∞–Љ –Є
–Ї–Њ—А–љ—П–Љ!
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤
–љ–∞–њ–Є—А–∞–ї –і–∞–ї—М—И–µ.
-–ѓ –ґ–µ —В–Њ–ґ–µ –њ–∞—А–Є–ї –Љ–µ–ґ –≤—А–µ–Љ–µ–љ, —Й—Г–њ–∞–ї, –љ–∞ –Ј—Г–±–Њ–Ї –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї, –≤–Є–і–µ–ї,
–≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Л –Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є, —И–µ–њ—В–∞–ї–Є—Б—М, –њ–µ—А–µ—И–µ–њ—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, —В—А—Г–±–Њ–є –≤ –Љ–µ–љ—П
—Ж–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–Њ —Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї —Б–µ–±—П –њ–Њ –ї–±—Г, - –≥–і–µ
–Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—М –љ–∞—И –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М –±–Њ–ї–Њ—В? –Ф–Њ—Б—В–Є–≥ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Є–ї–Є
–њ–Њ—З–Є–ї, –Њ—В–Љ–µ—З—В–∞–ї—Б—П? –Я–Њ–Љ–љ—О, –њ–Њ–Љ–љ—О, –љ–∞ –±–Њ–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ "–Х.–Я.". –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ,
—Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Х.–Я. –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї —В–∞–Љ? –Р? –Э—Г, –С–Њ–≥ —Б –љ–Є–Љ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–є, –љ–∞–Љ
–ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–є, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Њ—Б—П–Ј–∞–µ–Љ–Њ–µ, –і–∞ –њ–Њ–Љ—П–≥—З–µ, –њ–Њ–±–µ–ї–µ–µ... -
–Ч–і–µ—Б—М –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–≥ —Б–µ–±—П –Є —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. - –Ф–∞ —З—В–Њ
–Љ–љ–µ, –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ—Е –љ–∞–і–Њ? –Я—Г—Б—В—М, –њ—Г—Б—В—М —Б—В—А–∞–љ–∞ –Ї–∞—В–Є—В—Б—П –њ–Њ–і –Њ—В–Ї–Њ—Б. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ,
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–µ–і—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В. –Э–µ—В, –љ—Г, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ, –±–∞—А–µ–ї—М–µ—Д
–њ–Њ–≤–µ—Б—П—В, –Љ—Г–Ј–µ–Є—И–Ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є, –љ–Њ –≤–µ–і—М –љ–∞—А–Њ–і-—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В. –Т—Б–µ
–њ–Њ—А–∞—Б—В–µ—В –±—Л–ї—М–µ–Љ, —Б–Є–ї–Њ—Б–Њ–Љ, –≤–µ—Б—М –≤–∞—И –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Ґ–∞–Ї —Б–Ї–∞–ґ—Г—В: –љ—Г
–ї–µ—В–∞–ї, —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є, –љ—Г –Є —З—В–Њ? –Р –Ї–∞–Ї –ґ–µ
—З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В? –Ъ–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–≤? –Р?
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞.
-–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є? –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж! –Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, —З–µ–≥–Њ
—Б—В–µ—Б–љ—П—В—М—Б—П, –љ–∞–і–Њ —А—Л—З–∞–≥–Є –±—А–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–ґ - —В–≤–Њ—А–Є, –Љ–µ—З—В–∞–є,
–љ–∞—А–Њ–і!
-–Ъ–∞–Ї–Є–µ —А—Л—З–∞–≥–Є? - –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
-–Э—Г, –љ—Г, –љ–µ –њ—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞–є—В–µ—Б—М, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї–µ–Ј –Ї —Б–µ–±–µ –Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е—Г,
–њ–Њ—И–∞—А–Є–ї —В–∞–Љ –Є –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –љ–∞ —Б–≤–µ—В –±–Њ–ґ–Є–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ—А–ґ–∞–≤–µ–≤—И–Є–є –Ї–ї—О—З –Њ—В
–∞–Љ–±–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞.
-–І—В–Њ —Н—В–Њ?
-–Ъ–ї—О—З–Є–Ї-—Б, - —Б–ї–∞–і–Ї–Њ –њ—А–Њ–њ–µ–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –і–µ–њ—Г—В–∞—В, - –Њ—В —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е
—А—Л—З–∞–ґ–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ-—В–Њ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П.
–Ъ–ї—О—З –Ј–∞–≤–µ—А—В–µ–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —В–Њ–ї—Б—В–Њ–є —И–µ–µ. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ј–∞–Љ–Њ—В–∞–ї
–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є.
-–Э–µ –Љ–Њ—А–Њ—З—М—В–µ –Љ–љ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —И—Г—В.
-–Э–µ—В —Г–ґ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Ј–∞–њ—А—П—В–∞–ї –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Ї–ї—О—З –Є –њ–Њ–≥–ї–∞–і–Є–ї
—Б–µ–±—П –њ–Њ –≥—А—Г–і–Є. - –Ь–љ–µ –љ–µ –≤–µ—А–Є—В–µ, —В–∞–Ї —Е–Њ—В—М —Г –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В–µ! –Ь–∞—А–Є–є
–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, —З—В–Њ –ґ –≤—Л –Љ–Њ–ї—З–Є—В–µ, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О, –Њ—В —З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є
–Ї–ї—О—З–Є–Ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В? –Э—Г-–Ї–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ —А—Л—З–∞–≥
—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, —А—Л—З–∞–≥ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є?...
-–†—Л—З–∞–≥ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, - –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ.
-–Ф–∞, –і–∞, –µ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є, - –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–∞.
-–Ф–∞, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, —П —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –±–Њ—П–ї—Б—П. –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ,
—В—А—Г—Б–Є–ї, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ, –≤—Б–µ –≤–≤–µ—А—Е —В–Њ—А–Љ–∞—И–Ї–∞–Љ–Є, - –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ
–њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –љ–∞–±–Є—А–∞—П –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г. - –Т–Є–і–µ–ї, –≤–Є–і–µ–ї –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Ј–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–Њ–є
–Ј—Г–±—З–∞—В–Њ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є, —Б—В–Њ–Є—В –Ј–≤–µ—А–µ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ, –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–≤—П–Ї–Є–≤–∞–µ—В.
–Я—А–∞–≤–і–∞, –і–∞–≤–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ, –ї–µ—В –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –љ–∞–Ј–∞–і, –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ –Є –љ–µ—В—Г
–љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–µ. –Р –≤–Њ—В –Ї–ї—О—З–Є–Ї —Е—А–∞–љ–Є–ї –Њ—В –і–≤–µ—А–Є –і—Г–±–Њ–≤–Њ–є, –≥–і–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ
—Г–Ї—А—Л—В. –Р –њ—А–Є –љ–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є...
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –Ј–∞–Љ—П–ї—Б—П, –∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —В—Г—В –ґ–µ –≤—Б—В–∞–≤–Є–ї:
-–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Є —А—Л—З–∞–≥ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П. –Ф–∞, –і–∞,
–≤–∞—И–µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ–µ–є—И–µ–≥–Њ. –Т—Б–µ, –≤—Б–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–Ј—П—В—М. - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤
–њ–Њ–≤–µ–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –±—Г–і—В–Њ –Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г —Г–ґ–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –Ј–∞ —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ.
- –Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М-—В–Њ –≤–∞—И –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –Є –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—Б—П. –Т–µ–і—М –Љ—Л –ґ –љ–µ –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О
–њ–Њ–ї–µ—В–Є–Љ, –Ј–і–µ—Б—П —А—П–і–Њ–Љ, –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—Б–Њ—В –≤–µ—А—Б—В. –І–Є–Ї, –Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–Љ—Б—П, –Љ–Є–љ—Г—П
–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–і–Њ–љ—Л. –Э–∞—Б—З–µ—В —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–є—В–µ—Б—М, —П —Г–ґ–µ
–ї—О–і–µ–є –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞—Б—З–Є—Б—В–Є–ї, —П–Ї–Њ–±—Л –і–ї—П –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–∞, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –≥–Њ—А–µ, –љ–∞
—Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А—Г—З–µ. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤–Є–і–∞—В—М, –њ—А–Є—Ж–µ–ї–Є—В—М—Б—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ!
–Ю–љ–Є —Б–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П —Б —Г–Љ–∞, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Т—Б–µ, –≤—Б–µ
–Њ—Б—В–Њ—З–µ—А—В–µ–ї–Њ, –Њ–љ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М, –µ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М.
–Ю–љ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М—Б—П, –Њ–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ
—В—Г—В –≤—Б–µ –љ–µ —В–Њ, —В—Г—В –≤—Б–µ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –і–∞–ґ–µ –µ–µ
–љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М.
-–Х–µ, - –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є —В–Є—И–Є–љ–µ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ —Б –Њ–њ–∞—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–ї –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ
—Б–Њ—Б–µ–і—Г –њ–ї–Њ—Е–Њ, –∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ –њ–Њ–Ї–∞—З–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ
–Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї:
-–Х–µ –љ–∞–є–і–µ–Љ, –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–є—В–µ—Б—М, - –Є –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞. -
–Я–Њ–є–і–µ–Љ, –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г —В–Њ–ґ–µ –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М –љ–∞–і–Њ.
72
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –ї–µ—В? –Я—П—В—М, –і–µ—Б—П—В—М, —Б—В–Њ? –Ю–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї
—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
–Т—Б–µ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ: –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Њ—А–љ–∞—П, —Б—В–∞—А—Л–є –і–≤–Њ—А, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞
–Є –С–Њ—И–Ї–∞, –≤–µ—З–љ—Л–є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–є –С–Њ—И–Ї–∞ —Б –≤–µ—З–љ—Л–Љ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–µ–Љ.
–І–∞—Б—В–Њ –µ–Љ—Г –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є —Н—В–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л —В–Њ–ґ–µ —Д–Є–Ї—Ж–Є—П, –Љ–Є—А–∞–ґ,
–Њ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –≤ —В–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤–Њ–Љ
—Б—В–µ–Ї–ї–µ, –Є –Њ–љ –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —А–µ–Ї–Є, –∞ –≤—Л—Б–Њ—Е—И–Є–є –њ–∞–ї–µ–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є
—Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В, –ґ–µ–ї—В—Л–є, —Б–Љ–Њ—А—Й–µ–љ–љ—Л–є, –Є—Б–њ–µ–њ–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є —В—Л—Б—П—З –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е,
—Д–∞–љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е, —В—Г—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤.
–£–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –С–Њ—И–Ї–Є! –Ъ–∞–Ї–∞—П —З–µ–њ—Г—Е–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Б–Ї–Њ–Ї. –†–∞–Ј–≤–µ
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–±–Є—В—М –Љ–Є—А–∞–ґ? –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—М —Б—В–µ–Ї–ї–Њ, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М—Б—П
–Є–Ј-–њ–Њ–і –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–≤–∞–љ–∞. –Ъ–∞–Ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±—Л—В—М –ґ–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є! –Э–µ—В,
–і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ - —Б–≥–љ–Є—В—М –Є —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П –і–ї—П –љ–Њ–≤—Л—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є, —В–∞–Љ, –≤–љ–Є–Ј—Г, –≤–Њ
–Љ—А–∞–Ї–µ, –њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б–Љ–µ–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Є–Ј –Љ–µ–љ—П —З—Г—З–µ–ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ
–њ–Њ—И–ї–Њ, –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ, —Б—В–∞—А–Њ! –Ы—О–і–Є —Б –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є, –Њ–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–µ–±–µ
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ —П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞–Љ–Є, —Б –±–Њ–ї—П—З–Ї–∞–Љ–Є, —Б —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є
–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—И–µ–є. –£ –Љ–µ–љ—П —В–Њ–ґ–µ –µ—Б—В—М –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П!
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї —Б–њ–Є—В, –Є –µ–Љ—Г —Б–љ–Є—В—Б—П —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б–Њ–љ, –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ —Г–Љ–µ—А –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, –∞
–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є, –љ–Њ –љ–µ –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –≥—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –∞ –≤
—Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–Њ–Љ —П—Й–Є–Ї–µ, –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ–Љ —Б–Ї–ї–µ–њ–µ, –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ
–і–ї—П –Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —З—Г–≤—Б—В–≤. –°–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б–Њ–Љ–Ї–љ—Г—В—Л–µ –≤–µ–Ї–Є –Њ–љ –µ–і–≤–∞ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Є—Е
–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –і–∞—В—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї: –Љ–Њ–ї, –ґ–Є–≤, –ґ–Є–≤. –Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ, –Є–ї–Є
—Г–±–µ–є—В–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ—А–≥–љ—Г—В—М, –і–≤–Є–љ—Г—В—М –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ - –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П.
–Э–µ –≤–Є–і—П—В, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В, –љ–µ —Е–Њ—В—П—В –і–∞–ґ–µ –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П, –≤—Л—В–∞—Й–Є—В—М –Є–Ј —В–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ
—Б—В–µ—А–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–∞. –Х–Љ—Г –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –ї–µ–Ј—Г—В —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ
–±–∞–Ї—В–µ—А–Є—Ж–Є–і–љ–Њ–Љ –≥–љ–Є–µ–љ–Є–Є. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П —Й–µ–ї–Ї–∞, –Њ–і–љ–∞-–і–≤–µ –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Є –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞, –∞
–і–∞–ї—М—И–µ –њ—Г—Б—В—М –ґ—А—Г—В –Є —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–∞—О—В—Б—П, –≤–Њ—В –Њ–љ —П, –µ—И—М—В–µ. –Ш–ї–Є —П –љ–µ—Б—К–µ–і–Њ–±–љ—Л–є?
–Т–і—А—Г–≥ –Љ–µ—З—В—Л –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—О—В, –Є –љ–∞–і –љ–Є–Љ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—Л–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є —Е–Є—В—А—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–Ї–∞–Љ–Є. –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –≤–Є–і–Є—В –њ–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ
–љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ, –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.
–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –љ–µ –≤–љ–µ—И–љ—П—П –њ–Њ–ґ–µ–ї—В–µ–≤—И–∞—П –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞, –∞ —З—В–Њ-—В–Њ
–≤–љ—Г—В—А–Є. –Ф–∞, –і–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ -
–≤—Л—Б–Њ—Е—И–∞—П –±–∞–±–Њ—З–Ї–∞ –Є–ї–Є –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –љ–∞–њ—А—П–≥–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї,
–њ—Л—В–∞—П—Б—М –і–∞—В—М —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–љ–∞–Ї, —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–µ—Б—В–Њ—З–Ї—Г, –Љ–Њ–ї,
–Ј–і–µ—Б—М —П, –Ј–і–µ—Б—М, –µ—Й–µ –ґ–Є–≤–µ—Е–Њ–љ—М–Ї–Є–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–є. –Я–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є,
–≤—Л—П—Б–љ–Є —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, —П –µ—Й–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—М—Б—П. –Я–Њ–ґ–∞–ї–µ–є –Љ–µ–љ—П,
—Г–Љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—И—М. –Р –≤–µ–і—М –Љ–Њ–ґ–µ—И—М, –њ–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ –≤–Є–ґ—Г -
–Љ–Њ–ґ–µ—И—М. –†–∞–Ј–±–µ—А–Є—Б—М, –≤–µ–і—М —В—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї –Ј–∞ –Љ–µ–љ—П,
–Љ—Г—З–∞–ї—Б—П –љ–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ–є. –ѓ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ—В, –њ—А–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є –Љ–µ–љ—П
–Њ—В—Б—О–і–∞, –∞–≤–Њ—Б—М –њ—А–Є–≥–Њ–ґ—Г—Б—М, –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–Є –≤—Л–њ–Њ—В—А–Њ—И–Є–ї–Є, —П –µ—Й–µ –Њ—Е –Ї–∞–Ї –Њ—З–µ–љ—М
–Љ–Њ–≥—Г –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М. –Э–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В
–Љ–∞–ї—Л—Е —И–µ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–є, –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П. –Т–Њ—В –њ–Њ—З—В–Є —Г—И–µ–ї - –Є –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П,
–≤—Л–і–µ—А–≥–Є–≤–∞–µ—В —Б –ї–∞—Ж–Ї–∞–љ–∞ –±—Г–ї–∞–≤–Ї—Г –Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–љ–Є–Ј–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ–µ –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ —В–µ–ї–Њ.
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–µ—В—Б—П. –Ю–љ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤, –Є —В–µ–њ–µ—А—М
—Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—В–Є—А–∞–µ—В —Б–Њ –ї–±–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ—В. –Т–Њ—В —Б—З–∞—Б—В—М–µ, - –≥–Њ—А—М–Ї–Њ
—Г—Б–Љ–µ—Е–∞–µ—В—Б—П, - –њ—А–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤ –±–Њ—И–Ї–Є–љ–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ. –Х—Б—В—М —З–µ–Љ—Г
–њ–Њ—А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Ю–љ –Љ–∞—Б—Б–Є—А—Г–µ—В –Ј–∞—В–µ–Ї—И—Г—О —И–µ—О, –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г –њ–Њ–≤—Л—И–µ.
–°–ї—Л—И–Є—В, –Ї–∞–Ї –≤–љ–Є–Ј—Г –С–Њ—И–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–ґ–љ—П–µ—В—Б—П —Б –Љ–µ—В–ї–Њ–є, –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞–µ—В
–њ–Њ–і–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–∞–њ–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є —Е—А–Њ–Љ–Њ–є –љ–Њ–≥–µ. –Р—А—В–Є—Б—В. –Я—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П
–і–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –≤–µ—З–љ–Њ –Ї–µ–Љ-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ —Г—Б–Є—Й–Є —Б–µ–±–µ –љ–∞–Ї–ї–µ–Є—В, —В–Њ
–±—А–Њ–≤–Є, - –≤—Б–µ –µ–Љ—Г —Б—Е–Њ–і–Є—В —Б —А—Г–Ї. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В–∞–Љ –Ј–∞ —Б—В–µ–љ–Њ–є –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ,
—З—В–Њ–± –њ—А–Њ—Г—З–Є–ї —И—Г—В–∞? –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –Є–љ—Ж–Є–і–µ–љ—В. –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В,
–Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є–є –і–µ–љ—М –≤ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Њ—А–љ—Г—О –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–ї
—А–∞–Ј—К—П—А–µ–љ–љ—Л–є –С–Њ—И–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–∞—А–Є–Ї —Б—К–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ —Г—Е–Њ, –≤
–≥–ї–∞–Ј–∞—Е —З—Г—В—М –љ–µ —Б–ї–µ–Ј—Л, –∞ –≤–Њ —А—В—Г –≥–Њ–ї—Г–±–Є–љ–Њ–µ –њ–µ—А–Њ. –І—В–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ? -
–њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Ш–Љ—П—А–µ–Ї, - –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞, –±—Г–љ—В, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ
–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ? –Ю–±—Л—З–љ–Њ –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –і–љ–Є –С–Њ—И–Ї–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—Б–µ–ї,
—А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—З–Є–≤, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –Ш–Љ—П—А–µ–Ї—Г –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј
–і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –С–Њ—И–Ї–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ–Є –ґ–і–µ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞.
–Ф–∞ —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М - –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ –Є —В–Њ—З–љ–Њ, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ
–љ–∞ –С–Њ—И–Ї—Г –ї—Г—З—И–µ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є –Њ–љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ї
–ї–µ—В –љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М. –Ш –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞ —В–µ–±–µ - –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В. –С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–∞—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ
–≤—А–∞—Й–∞–ї –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –њ–ї–µ–≤–∞–ї—Б—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Є–Ј –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е. –І–µ–Љ
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–Є–і–µ—В—М –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А–∞? –Ш —В—Г—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б—В–∞—А—Г—О –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Г—О
–ї–µ–≥–µ–љ–і—Г, –њ–Њ—З—В–Є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Є–Ј —Г—Б—В –≤ —Г—Б—В–∞ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ
–њ–∞—А—В–Є–Є. –С–Њ—И–Ї–∞ –±—Л–ї –љ–∞—З–Є—Б—В–Њ –ї–Є—И–µ–љ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —О–Љ–Њ—А–∞, –љ–Њ –±—Л–ї —Г–Љ–µ–љ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ,
—З—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ
–Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї —Б–Љ–µ—Е –њ–Њ –µ–≥–Њ –∞–і—А–µ—Б—Г. –≠—В–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј
—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –Є –±–∞–ї–∞–≥—Г—А, —Б–Њ—З–Є–љ–Є–ї, –±—Г–і—В–Њ –С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–∞–±–ї—Г–і–Є–ї—Б—П –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤
—В–∞–є–≥–µ –Є –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М–µ –ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ. –Ь–µ–і–≤–µ–і—М –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж–∞: "–І–µ–Љ
–Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П "–Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –≥–Њ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л?" –Ю—В–≤–µ—В–Є—И—М - –Њ—В–њ—Г—Й—Г". –С–Њ—И–Ї–∞
–Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П, –љ–∞–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –±–µ—А–ї–Њ–≥–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О –ї—Г–ґ—Г, –Є –±–µ–ґ–∞—В—М. –Р –Љ–µ–і–≤–µ–і—М
—Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ - "–Ґ–Њ—З–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ—З–Ї–Њ–є!" -–≤–і–Њ–≥–Њ–љ–Ї—Г, –і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ—В–Є–љ–Њ–Ї —Б
–љ–Њ–≥–Є –Є —Б—В–∞—Й–Є–ї. –Ю—В —В–Њ–≥–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —В–µ–њ–µ—А—М –С–Њ—И–Ї–∞ –Є —Е—А–Њ–Љ–∞–µ—В. –Ю—З–µ–љ—М –С–Њ—И–Ї–∞ –љ–µ
–ї—О–±–Є–ї —Н—В–Њ—В –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В, –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е
—А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї. –Ш –≤–Њ—В —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞–і –љ–Є–Љ –љ–∞–і—Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –Ї–Њ–Љ—Г,
–Ј–љ–∞—З–Є—В, –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Г–Љ—Л, –Є–љ–∞—З–µ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —Г –љ–µ–≥–Њ
—Б–Ї–ї–µ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –і–≤–∞ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–Њ—В–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —В–Є—Е–Є–µ –Є
—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞?
73
–Я—А–Њ—И–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ј–∞–њ–µ—А—Б—П, —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї –Є
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–њ–Є—А–∞–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Г, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –њ–∞—А–Њ–ї–µ: —В—А–Є
–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞ - –Ј–љ–∞—З–Є—В, —Б–Њ—Б–µ–і. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї
–≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –Ъ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ч–∞—А—Г–і–Є–љ.
-–Р–ї–µ, –Ї—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В?
-–Я–Њ–Ј–Њ–≤–Є—В–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞, - –Ј–∞–ґ–∞–≤ —А—Г–Ї–Њ–є –љ–Њ—Б,
–њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–Т —В—А—Г–±–Ї–µ —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞–і—Л—И–∞–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –љ–µ—А–≤–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ
–њ–µ—А–µ—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є:
-–Ъ—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В?
-–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Є–Ј –≥–Њ—Б–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є.
-–Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В–µ –≤ –Њ—В–і–µ–ї –Ї–∞–і—А–Њ–≤, - –љ–µ —Б–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –±—Л–≤—И–Є–є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ.
-–Я–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –≠—Б –Я—Н.
-–≠—Б –Я—Н!... - —З—Г—В—М –љ–µ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї–Є –љ–∞ —В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ. - –≠—Б –Я—Н –љ–µ—В—Г, —Г–Љ–µ—А...
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –±—А–Њ—Б–Є–ї —В—А—Г–±–Ї—Г –Є –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї. –Ф–∞–ґ–µ
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–і–∞–ї—Б—П - –µ—Б—В—М –≤–µ–і—М —В–Њ–ґ–µ —З—В–Њ-—В–Њ
–љ–∞–і–Њ. –Ш –≤–Њ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Х—Й–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≤
–Њ–±—Й–µ–Љ –љ–∞ —В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є
–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ
—В–µ–њ–µ—А—М, –≤ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–є –Є—О–љ—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–µ—В–љ—П—П –ґ–∞—А–∞ –≤–і—А—Г–≥ —Б—Е–ї—Л–љ–µ—В –њ–Њ–і
—А–∞—Б–Ї–∞—В—Л –≥—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е —А–∞–Ј—А—П–і–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Ї–∞—И—В–∞–љ–Њ–≤—Л–µ –∞–ї–ї–µ–Є –Њ—В–±—А–Њ—Б—П—В —В—А–Њ–µ–Ї—А–∞—В–љ–Њ
—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ–љ–Є –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Ъ—Г—А—З–∞—В–Њ–≤–∞. –Э–Њ —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В,
—Г–≤–µ—А–µ–љ –±—Л–ї —В–Њ—З–љ–Њ. –Ґ–Њ–Љ—Г –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ,
–љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–µ –і–ї—П –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞, –љ–Њ –Њ—Е –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г
–Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ–Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї—О. –Т —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј—Г–Љ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ–Ї–Њ–µ
—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥, –≤ —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л, -
–∞ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –°–µ—А–≥–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞, - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–ґ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П
—А–∞–≤–љ—Л–Љ –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤—Г –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤ –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ–∞.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ–µ –Є—О–љ—М—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤–ї–∞–ґ–љ—Л–µ —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л
–ї–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П, –µ–і–≤–∞ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–љ–Њ–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –≥–Њ–љ–Є–Љ–Њ–µ –≤–µ—В—А–Њ–Љ, –Њ—В–≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–Њ
–≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞, –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–Є —В—А–µ–Љ—П
–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞–Љ–Є. –•–Њ–Ј—П–Є–љ –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Њ–Ї. –Я–∞—А–Њ–ї—М
–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї—Б—П, –љ–Њ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є–і—В–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М.
–Э–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ —Б—В–Њ—П–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –Ј–∞ –љ–Є–Љ, —З—Г—В—М —Б–њ—А–∞–≤–∞, –Њ–і–љ–Њ–є –љ–Њ–≥–Њ–є –љ–∞
–ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –Є –µ—Й–µ –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ, –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–ї-–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞,
–Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –≤ –њ—А–Њ–ї–µ—В, –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–∞—Б—М —З—Г–ґ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞. –Ю—В—В—Г–і–∞, —Б–љ–Є–Ј—Г,
–і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Г–і–∞–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П —И–∞–≥–Є. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Г. "–Ф–Њ–≥–Њ–љ–Є—В–µ
–µ–≥–Њ, –Њ–љ –Ј–∞–±—А–∞–ї —В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г", - –µ–і–≤–∞ —А–∞—Б—Б–ї—Л—И–∞–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —Б
–Љ–µ—Б—В–∞ –Є –Є—Б—З–µ–Ј. –Ґ—Г—В –ґ–µ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ—А–Њ–њ–∞–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ –њ—А–Њ–њ–∞–ї
–њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –µ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Є–і—Г.
-–Т—Е–Њ–і–Є.
–°–Њ–љ—П –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –њ—А–Є–ї–Є–њ—И—Г—О –Ї —И–µ–µ –Љ–Њ–Ї—А—Г—О –њ—А—П–і—М. –Я–Њ—В—А–Њ–≥–∞–ї–∞ –≤–Є—Б–Њ–Ї –Є
—Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞–і–Є–ї–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї–∞ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ–љ–љ–Њ–є —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–µ
—Б–Њ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞—А–∞–Ї—Г–ї—П–Љ–Є "–Ь—Г–Ј–µ–є-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞
–°.–Я.–°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞. –Ю—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т—Е–Њ–і –≤–Њ—Б–њ—А–µ—Й–µ–љ".
–Э–µ –і–Њ—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—П—Б—М –і–Њ –≥–Њ—Б—В—М–Є, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ—А–Њ—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –µ–µ –Љ–Є–Љ–Њ –Ї—Г—Е–љ–Є,
–Љ–Є–Љ–Њ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Њ–є, –Љ–Є–Љ–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л, –≥–і–µ –њ–µ—А–µ–і —Б—В–∞—А—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–∞–ї–µ–љ–∞
–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—П. –Я–µ—А–µ–і —В—А—О–Љ–Њ –°–Њ–љ—П –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М.
-–£ –≤–∞—Б –µ—Б—В—М —А–∞—Б—З–µ—Б–Ї–∞? –Ь–Њ—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–Љ–Њ—З–Ї–µ.
-–†–∞—Б—З–µ—Б–Ї–∞, - –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. - –Э–µ—В. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ...
–Ю–љ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї —П—Й–Є—З–µ–Ї —В—А—О–Љ–Њ, –≥–і–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Љ–∞—Б—Б–∞–ґ–љ–∞—П —Й–µ—В–Ї–∞ –Ь–∞—А—В—Л, –≤–Ј—П–ї,
–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–і–µ—А–≥–Є–≤–∞—П –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –°–Њ–љ–µ. –Ґ–∞ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є
–њ—А–Є–љ—П–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –І–µ–≥–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, –љ–Њ
–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞. –Ю–љ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞, –Ї–∞–Ї –љ–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ
–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞! –Ю–љ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З—Г, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–і—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–ї
—Б–ї–Њ–≤–∞, –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П —П–Ј–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Њ–љ, –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–Є,
–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≥–Њ—А—М–Ї–Є–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞, —Г –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є. –≠—В–Њ
–±—Л–ї–Њ –±—Л –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Є –Њ–љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї
–≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –∞ —В—Г—В...
-–£ –≤–∞—Б –µ—Б—В—М –≥–Є—В–∞—А–∞? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –°–Њ–љ—П.
-–£ –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ –µ—Б—В—М. - –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
–°–Њ–љ—П —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ, –њ–Њ–і–Њ–≥–љ—Г–≤ –њ–Њ–і
—Б–µ–±—П –љ–Њ–≥–Є; –≤–Ј—П–ї–∞ —В—Г—В –ґ–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В, –њ–Њ—Б–Ї—А–Є–њ–µ–ї–∞ –≤—Л—Б–Њ—Е—И–Є–Љ–Є
–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Л—В–µ—А–ї–∞ –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –і–µ–Ї—Г –Є –Ј–∞–њ–µ–ї–∞:
-–У–ї—П–і—П –љ–∞ –ї—Г—З –њ—Г—А–њ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–∞—В–∞,
–°—В–Њ—П–ї–Є –Љ—Л –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Э–µ–≤—Л...
–Т–Њ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –і—Г–Љ–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, —Б–ї–µ–і—Г—П –і—Г—И–Њ–є –Ј–∞ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–Љ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ.
–Т–Њ—В –Є —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–∞ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –њ–Њ–µ—В! –Ю–љ –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–∞–Ї—А—Л–ї
–≥–ї–∞–Ј–∞, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥, –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є. –Я—А–∞–≤–∞—П –ї–∞–і–Њ—И–Ї–∞
–љ–µ—Г–Љ–µ–ї–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–∞ –≤–і–Њ–ї—М —Б—В—А—Г–љ, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В —Г —Б–∞–Љ–Њ—Г—З–µ–Ї, –Є –∞–Ї–Ї–Њ—А–і—Л
–њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є—Б—М —Б —И–µ–њ–Њ—В–Ї–Њ–Љ. –Э–Њ —Н—В–Њ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї —Г–Љ–µ–ї–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ, –љ–µ–ґ–љ—Л–Љ
–њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–Љ –Ї –і–µ–ї—Г, —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ —А–µ–і–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є —З–Є—Б—В—Л–є —В–∞–ї–∞–љ—В. –Ф–∞, –Њ–љ –љ–µ
–Њ—И–Є–±—Б—П, - —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–і–Њ–µ—Б—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Т–Њ—В –Љ–Є–љ—Г—В–Ї–∞, –≤–Њ—В –≥–і–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–ї–Є—В—М—Б—П
–љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ї, –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е —В–∞–Љ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є, –±–µ–Ј
—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, —З–µ—А—В–µ–ґ–µ–є –Є —Б—Е–µ–Љ, —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–ї—Л–≤–µ—В, –Ї–∞–Ї
—Е–Њ—З–µ—В, —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—В–Њ–Ї –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ, –≤–њ–µ—А–µ–і, –≤–њ–µ—А–µ–і, –≤ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ
–Љ–µ—Б—В–Њ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ? –Ґ–∞–Љ –і–∞–≤–љ–Њ –ґ–і—Г—В –µ–≥–Њ –Є –µ–µ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї -
—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –µ–Љ—Г —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—З–љ–Њ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—В—М –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є. –Ъ–∞–Ї
—Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—А–Є—В –≤ —Н—В–Њ. –Х–Љ—Г, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—О —З—Г–і–Њ-–∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞,
—В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –ї–µ—В–∞—В—М –њ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–Ї–µ, –±–µ–Ј —А–∞—Б—З–µ—В–∞ –Є –њ–ї–∞–љ–∞, –љ–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ –Ј–Њ–≤—Г
—Б–µ—А–і—Ж–∞.
–°–Њ–љ—П –њ–µ–ї–∞ –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ, –≥–ї—П–і—П –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г, –∞ –ї–Є—Ж–Њ –±—Л–ї–Њ
—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ –Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ. –І—В–Њ –±—Г–і–µ—В –і–∞–ї—М—И–µ? - –≥–∞–і–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Я—Г—Б—В—М –њ–Њ–µ—В
–µ—Й–µ. –Я—Г—Б—В—М –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Љ –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б—В–Є—Е–Њ–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М,
–Ї—В–Њ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —Б —З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞. –Э–µ –і–∞–є –С–Њ–≥, –µ—Б–ї–Є —З—В–Њ.
–†–Њ–Љ–∞–љ—Б –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –њ—А–µ—А–≤–∞–ї—Б—П.
-–Т—Л –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В–µ.
-–Э–µ—В, –љ–µ—В, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В... - –Њ–љ –Ј–∞–њ–љ—Г–ї—Б—П, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤, —З—В–Њ –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–µ—В. -
–Я–Њ–є... –Я–Њ–є—В–µ –і–∞–ї—М—И–µ.
-–Т—Л –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В–µ, - –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М
–°–Њ–љ—П. - –Т—Л –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–µ—В–µ —Б–ї–Њ–≤, –∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≤—Б–µ –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ј–∞—З–µ–Љ —П –≤–∞–Љ —Н—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—О.
–°–Њ–љ—П —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –µ—Й–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Э–∞ –≥—Г–±–∞—Е
–Њ–њ—П—В—М –Ј–∞–Є–≥—А–∞–ї–∞ –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Г–ї—Л–±–Ї–∞, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї—Г –Є –њ–Њ—И–µ–≤–µ–ї–Є–ї–∞
—Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–Љ. –≠—В–Њ—В –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –ґ–µ—Б—В –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–±–Є–ї
—Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ —Б —В–Њ–ї–Ї—Г. –Ю–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є,
—В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г. –Ґ–∞–Ї –≤ –љ–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ —А—Г–Ї–Є
–њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П —З—Г–≥—Г–љ–љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—В–∞, - –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ –љ–µ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –≤
–Ј–∞–њ—Г—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —И–∞–ї–Њ–њ—Г—В–∞.
-–Ш–і–Є—В–µ —Б—О–і–∞, –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є–Ї. –ѓ –≤–µ–і—М –≤–∞–Љ –љ—А–∞–≤–ї—О—Б—М, –њ—А–∞–≤–і–∞?
-–Ф–∞–≤–љ–Њ, - –≤—Л–і–Њ—Е–љ—Г–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
-–Ь–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П.
"–°–Њ–љ—П, –°–Њ–љ—П", - –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ —И–µ–њ—В–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, —Ж–µ–ї—Г—П –љ–µ—З–µ—В–љ—Л–µ
–Љ–µ—Б—П—Ж—Л, –±—Г–і—В–Њ –ґ–µ–ї–∞—П —Г–Ј–љ–∞—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –≤ –Є—О–ї–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Ї —З–µ—В–љ—Л–Љ,
–њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –≥–Њ–і–∞. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї –Є –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П
–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –±—Л—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г. –Ю–љ –≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –µ–µ —А—Г–Ї–∞
–њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –њ–Њ–і–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –і–ї—П —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞ —Б—З–µ—В–∞. –Ъ–Њ–ґ–∞ –µ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –ґ–µ—Б—В—З–µ –Є
–Є–Љ–µ–ї–∞ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–≤–∞—В—Л–є –њ—А–Є–≤–Ї—Г—Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ —Б–ї–∞–і–Ї–Њ–≤–∞—В—Л–є
–і–Є–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Ї—Г—Б –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ. –Ю–љ –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї
–≥–ї–∞–Ј–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Г –љ–∞ —А—Г–Ї–∞–≤–µ. –° —Г–Ї–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ–ї–∞—В—М–µ —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є –≤ —В–∞–Ї—Г—О –ґ–∞—А—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ
–љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ –Њ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞, –Є —В—Г—В –ґ–µ –µ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї. –І—В–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М,
–Њ–љ, —В–∞–Ї–Њ–є —Й–µ–њ–µ—В–Є–ї—М–љ—Л–є –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±—Л–ї
–љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–њ—Г—В–Є, –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П
–љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –µ–є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Љ–Њ–ї—З–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ
–Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б –µ–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ы—Г—З—И–µ –±—Л –Њ–љ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї.
–Ч–∞—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ–µ –≤—А–∞—Б–њ–ї–Њ—Е, –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–Њ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–µ, –≤—Л–Љ—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ.
–Ю–љ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –Ј–∞–Љ–µ—А.
-–Ъ—Г–і–∞ –ґ–µ –≤—Л? - –љ–µ –≥–ї—П–і—П, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –°–Њ–љ—П. - –Э–µ –±–Њ–є—В–µ—Б—М –Љ–µ–љ—П. - –Ю–љ–∞
–њ–Њ–Є—Б–Ї–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. - –Т—Б–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М—Б—П, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ,
—В–Њ–≥–і–∞ –≤—Л —В–Њ–ґ–µ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–љ–µ —А—Г–Ї–Є. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ, –Є–ї–Є —П –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–ї–∞...
–°–Љ–µ—И–љ–Њ –Ї–∞–Ї, —П –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —В–µ–Љ–µ–љ—М, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П,
–Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ–∞—П –Є –њ—Л–ї—М–љ–∞—П. –ѓ —Б—В—Г—З–∞–ї–∞ –њ–Њ –љ–µ–є —Б—Г—Е–Њ–є –≤–µ—В–Њ—З–Ї–Њ–є... –Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤—Б–µ
–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —П –Ї –≤–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–∞, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л –≤—Б–µ
–≤–µ—А–љ–µ—В–µ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –ї–∞–і–љ–Њ? –≠–є, –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є–Ї!
-–Ґ—Л –Њ —З–µ–Љ?
-–Э—Г–ґ–љ–Њ –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ.
-–≠—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, - –њ—А–Њ—Ж–µ–і–Є–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
-–Ф–∞ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —П —Б–∞–Љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М, —Г –≤–∞—Б, —А–∞–Ј–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ
–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ? - –Њ–љ–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г, –Є –њ–Њ–≥–ї–∞–і–Є–ї–∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ —Г –≤–Є—Б–Ї–∞. - –Т—Л
—Г–Љ–љ—Л–є, –≤—Л –≤—Б–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–ї–Є, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–і–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М—Б—П, –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–∞—И–µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П
–Ш–ї—М—О –Ш–ї—М–Є—З–∞, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –°–µ–≤–µ—А–љ—Г—О, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ...
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —З—Г—В—М –љ–µ —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–∞–ї –Ј—Г–±–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—М—Б—П?
-–Т–µ–і—М –і–ї—П –≤–∞—Б –љ–µ—В —В–∞–є–љ, —П –≤–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В—Г—Е–ї–Є –≤–∞—И–Є –≥–ї–∞–Ј–∞. –Т–∞–Љ –љ–µ—З–µ–≥–Њ
–ґ–µ–ї–∞—В—М, —В–∞–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ –Љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ. –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ—О –≤–∞–Љ –Њ
—Б–µ–±–µ. –Ь—Л —Г–µ–і–µ–Љ –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М, –Є–ї–Є –љ–µ—В, —Г–µ–Ј–ґ–∞–є—В–µ –ї—Г—З—И–µ –≤—Л... –ѓ –і–∞–ґ–µ –±—Г–і—Г
–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –≤–∞—Б –Є–љ–Њ–≥–і–∞...
–Р—Е, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Њ—И–Є–±—Б—П! –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ —Б—О–і–∞, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ
–њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ. –Я–Њ–≤–µ—П–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –ї–µ–і—П–љ—Л–Љ —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ. –Ю–љ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї –≤ –≥–ї—Г–њ–Њ–є
–љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–µ, –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –Є —Г –Ї–Њ–ї–µ–љ, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–Љ–Њ–љ—В, –Ј–∞—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л–є –≤—А–∞—Б–њ–ї–Њ—Е
–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ. –Т—Б–µ –Ј—А—П. –°—А–∞–Ј—Г –µ–≥–Њ –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—И–љ—Л–є
–≥–Њ–і, –≤ —В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –°–Њ–љ–Є–љ—Г —А—Г–Ї—Г –≤ –≥–Њ—А—П—З–µ–є –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є
–ї–∞–і–Њ–љ–Є –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –®–љ–Є—В–Ї–µ. –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ –Ш–ї—М—О –Ш–ї—М–Є—З–∞ –Ш–ї—М–µ–є –Ш–ї—М–Є—З–µ–Љ,
–і–∞ –µ—Й–µ –Є —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –µ–є –љ–µ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж? –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —З–µ–њ—Г—Е–∞. –Ю–љ
–Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї –µ–µ —А—Г–Ї—Г –Є —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г.
-–Т—Л –љ–µ —Е–Њ—В–Є—В–µ? –Т—Л –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–µ—В–µ –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М? –Ч–љ–∞—З–Є—В, —Ж–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–Љ—Г –≤—Л—И–µ?
–Э–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ, —Г –Љ–µ–љ—П –ґ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, - –Њ–љ–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ
–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ —А—Г–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є. - –Э–µ –Љ–Њ–ї—З–Є—В–µ, —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ —Е–Њ—В—М —Б–ї–Њ–≤–Њ, —Г—З–µ–љ—Л–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
-–ѓ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї... - –љ–∞—З–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–≥–∞—П —Б–µ–±—П. -
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М —П –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї, –љ–Њ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї... –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ?
–°–Њ–љ—П —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ - —В–∞–µ—В –µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞. –С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В,
–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞—Е
—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –µ–µ –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –Т–µ–і—М –Є —В—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О
–љ–Њ—З—М –Њ–љ–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–∞, - –і–∞, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–∞, –∞ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї–∞, - –љ–µ–Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Л–Љ–Є
—Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ—В—Ж–∞, –і–∞ –Є –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –≤–µ–і—М –Є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є - –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Ї–∞–Ї–∞—П –Є—А–Њ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤
- –љ–∞—Е–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–Ї—А–∞–ї —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–µ –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є
—Б—В–∞–ї –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Р —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–є –љ–µ
–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, –∞ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–і–µ—П–љ–љ—Л–є —В–µ—Е–љ–Њ–Ї—А–∞—В, –љ–∞—И–Ї–Њ–і–Є–≤—И–Є–є
–љ–∞–і –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –њ–Њ–і –µ–µ –≤–µ—З–љ—Л–µ —В–∞–є–љ—Л. –•–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В—М
–љ–µ–±–Њ, –∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї –Ј–µ–Љ–ї—О, –і–∞ –Ї–∞–Ї –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–µ, –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ. –Ю–љ–∞ –Њ–±–≤–µ–ї–∞
–≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г–њ—Г—Б—В—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В–Є—А–∞–ґ–љ—Л–µ –Њ–±–Њ–Є, —Г–ґ–µ
–њ–Њ–±–ї–µ–Ї—И–Є–µ –Є –≤—Л–≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–Ї–ї—О—З–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є
—А–Њ–Ј–µ—В–Ї–∞–Љ–Є. –Т—Б–µ –њ—Г—Б—В–Њ –Є –≤—Б–µ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї, –і–∞ –µ—Й–µ
–Ј–∞–њ—Л–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Б —В—А–µ—Б–љ—Г–≤—И–Є–Љ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ, —Б –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–ї—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ
–њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –≥—А—П–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ—О
–њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ї –Є –≥–µ—А–Њ–є –Є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л-–Љ—Г–Ј–µ—П. –Ю–љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П,
—З—В–Њ-—В–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї. –Э—Г –і–∞, –Њ–љ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ —В—Г—В
–њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –І—В–Њ –ґ–µ, –Њ–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М, –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞, –Њ–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ—В.
-–Ш —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї—О –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Љ–Њ—А–Њ–Ј, –Є –≤—Л—И–ї–Є –ї—О–і–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥... - –љ–∞—З–∞–ї–∞
–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –°–Њ–љ—П.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –≥–Њ—Б—В—М—О. –І—В–Њ —Н—В–Њ –Њ–љ–∞? –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ. –Ю–љ–∞ –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –≤ —Б–µ–±–µ. –°—В—А–∞–љ–љ—Л–є, –љ–∞–њ—Л—Й–µ–љ–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В, —Н—В–Њ
–љ–µ –µ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї –≤—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г
–њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є –≤—Б—П–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Љ—Л—Б–ї–Є. –Ю–љ–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї–∞, –і–∞, –і–∞, –Њ–љ–∞ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –≤
—Б–µ–±–µ. –Р –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –≤–µ—А–љ–Њ, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї - –±—Л–ї –Љ–Њ—А–Њ–Ј, –љ–Њ—З–∞–Љ–Є –ґ–≥–ї–Є
–Ї–Њ—Б—В—А—Л, –±—Л–ї –Љ–Є—В–Є–љ–≥. –Ф–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –і–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–і–Ї—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥—А—П–љ—Г–ї
–Ј–∞–ї–њ, –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–∞–љ–Є–Ї–∞, –Њ–±–µ–Ј—Г–Љ–µ–≤—И–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є.
–Ф–∞ –љ–µ—В, –≤–µ–і—М –љ–µ —В–Њ–ї–њ–∞, –∞ –µ–≥–Њ, –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ
—В–Њ–≥–Њ, –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —Г–ґ –і–≤–Њ–µ-—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ, –њ—А—П–Љ—Л–µ
–µ–і–Є–љ–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є.
–°–Њ–љ—П –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М, –њ–Њ—В–Є—А–∞—П –≤–Є—Б–Њ–Ї.
-–Ч–∞–±—Л–ї–∞, –Ј–∞–±—Л–ї–∞, - –Њ–љ–∞ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П, –њ–Њ—И–∞—А–Є–ї–∞ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ
–і–Є–≤–∞–љ—Г. - –Р—Е, –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г —Г–љ–µ—Б. –Т—Л –µ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, –њ—Г—Б—В—М –≤–µ—А–љ–µ—В
—В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–њ—П—В—М —Г—И–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П, —Г–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Ј–∞
–≤—Л—З—Г—А–љ—Л–Љ –њ—А–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–Є—Д–Њ–Љ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞, –±—Л–ї —Г–ґ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –≤–µ—З–µ—А. –Т—Б–µ –Ј–∞—В–Є—Е–ї–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≤–љ–Є–Ј—Г –Ј–∞ —Г–≥–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–Є–њ–µ–ї, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—П –і–≤–µ—А–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б –Є —В–µ–њ–µ—А—М
—Б—В–∞–ї–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В—А–µ—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В –≤ —В–µ–Љ–љ—Л—Е –і–∞—А–љ–Є—Ж–Ї–Є—Е —Б–∞–і–∞—Е –њ–µ—А–µ—Б–њ–µ–ї—Л–µ —И–∞—А—Л
–±–µ–ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Є–≤–∞. –У–і–µ-—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–∞–і –Я–Њ–і–Њ–ї–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ—А–∞–ї–Њ –≥—А—П–Ј–љ–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–µ –Ј–∞—А–µ–≤–Њ.
–І—Г—В—М –ї–µ–≤–µ–µ, –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–∞–љ–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л—Е
–Ј–і–∞–љ–Є–є, –≤ —Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤–Њ–є –і—Л–Љ–Ї–µ —В–∞–Ї –Є –љ–µ–њ—А–Њ—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –і–Њ–ґ–і–µ–Љ
–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –Љ–µ—А—Ж–∞–ї–Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є
–ї–∞–≤—А—Л, –∞ –µ—Й–µ –ї–µ–≤–µ–µ, –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Т—Л–і—Г–±–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О, –≤ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ
–њ–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В —Г–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—Л—Б–µ–≤—И–Є–є –њ–Њ–Ї–∞—В—Л–є —Е–Њ–ї–Љ, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ, –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞
–µ–≥–Њ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ, –Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А—Л –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—Б–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ
—Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є. –І—В–Њ –±—Л —Н—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М? - —Б –љ–µ–і–Њ–±—А—Л–Љ
–њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Ю—Е, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–Є–ї—Б—П –±—Л, –µ—Б–ї–Є –±
—Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –њ–Њ–Љ–њ–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —Б—Г–µ—В–ї–Є–≤–Њ
–±–µ–≥–∞–µ—В –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ –Є –љ–∞–ї–µ–≤–Њ —Ж–µ–љ–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ
—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
-–Р –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є, - –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ–Њ–≤–µ–ї —А—Г–Ї–Њ–є –≤
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≥–Є—В–∞—А—Л.
–Х–≥–Њ –љ–∞—В—Г–ґ–љ–∞—П —И—Г—В–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –±–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—В–∞.
-–≠—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, —В–∞–Љ, –≤ –њ–Њ–і–≤–∞–ї–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞.
-–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ, - –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї—Б—П –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. - –ѓ –µ–≥–Њ
–њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї.
-–Э–µ —Б–Љ–µ–є—В–µ, - –љ–µ –љ–∞ —И—Г—В–Ї—Г –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї–∞—Б—М –°–Њ–љ—П. - –Т–µ–і—М –Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ
–Ј–љ–∞–ї. –Ю–љ —В–∞–Ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ —В–Њ—З–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї!
-–Р —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї? –І—В–Њ –±—Л–ї –Љ–Њ—А–Њ–Ј? –Ш –±—Л–ї–Њ —Г—В—А–Њ? –Р –љ–∞—Б—З–µ—В
–Ј–∞–ї–њ–∞ - —В–∞–Ї –њ—Г—И–Ї–∞ —В–∞–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М —Б—В—А–µ–ї—П–µ—В –њ–Њ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞. - –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤
–≤—Б—В–∞–ї –Є –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –Њ–Ї–љ—Г. - –І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е
–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–µ–є –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Л, —В–∞–Ї –Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Л—И–∞—В—М
–Њ—В –Љ–µ–љ—П –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, - —В—Г—В –Њ–љ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ј–∞–њ–љ—Г–ї—Б—П. - –Я–Њ–≤–µ—А—М, –°–Њ–љ—П, –Њ–љ–Є
—Б–∞–Љ–Є –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –ѓ –≤—А–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—Б—В–∞–ї–Є. –Ф–∞, —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є
–Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–і–µ–Є, –љ–Њ –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ...
–°–Њ–љ—П –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–∞.
-–Ю–љ–Є –±—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, - –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. - –У–ї–∞–≤–љ—Л–є
–≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Є –Ї–µ–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П? –Э–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ
–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —Г –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В–Є —Б—В–Њ–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –У–ї—Г–њ—Л–µ —Й–µ–љ—П—В–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е
—Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–Њ–≤, –Њ–љ–Є —Б–Њ—И–ї–Є —Б —Г–Љ–∞ –Њ—В —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –Њ–љ–Є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ
–Њ—В –µ–і–Є–љ—Л—Е —В–µ–Њ—А–Є–є, –Њ–љ–Є –±—А–µ–і—П—В –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї–∞—П –њ–Њ—И–ї–∞—П
—З–µ–њ—Г—Е–∞, —Н—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —З—В–Њ —А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—О –Ј–∞—И—В–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ
–≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Є. –Ю–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ —Б–Њ—В–љ—О –ї–µ—В –≤–њ–µ—А–µ–і, –≥–і–µ –Ј–Є—П–µ—В
–Ї—А–Њ–Љ–µ—И–љ–∞—П –±–µ–Ј—Л–і–µ–є–љ–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞. - –Ю–љ —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –°–Њ–љ–µ. - –Ф–∞, —П
–љ–∞—И–µ–ї —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –µ—Й–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—М, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, –°–Њ–љ—П, –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—Г—В–Є
–љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В, —Н—В–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –≤ –љ–Є–Ї—Г–і–∞. –•–∞, - –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ј–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, -
–≥–ї—Г–њ—Ж—Л, —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В—Л—Б—П—З—Г –≠–є–љ—И—В–µ–є–љ–Њ–≤? –С—А–µ–і, –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–∞—П
—Н–Ї—Б—В—А–∞–њ–Њ–ї—П—Ж–Є—П. –Ґ—Л—Б—П—З–∞ –Њ–±—Й–Є—Е —В–µ–Њ—А–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є - —Н—В–Њ –ї–Є –љ–µ
–≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–∞—П –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В—М! –Э–Њ –≤ —В–Њ–Љ-—В–Њ –Є –±–µ–і–∞, –°–Њ–љ—П. –Т–Њ—В —Г–њ—А—Г—В—Б—П –Њ–љ–Є –≤ —Н—В—Г
—Б—В–µ–љ—Г, –Є —З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ? –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Њ –і–Њ–є—В–Є –і–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є
–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Є—А–∞—Е, –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З, –Њ –љ–µ–Ї–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е
—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е, —В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —А–∞–Ј –Є—Е –љ–µ—В - –∞ —П
—Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–љ–∞—О - —В–Њ –љ–µ—В –Є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Г –љ–∞—Б.
–Т—А—П–і –ї–Є –°–Њ–љ—П —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–∞, –і–∞ –Њ–љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Є –љ–µ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –љ–∞
—Н—В–Њ, –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П.
-–І—В–Њ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П? –Т—Б–µ –±—А–Њ—Б–Є—В—М, –Є—Б–Ї–∞—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В –≤–∞—И —З—Г–і–∞–Ї
–®–љ–Є—В–Ї–µ, –≤ —Ж–µ–њ–Є –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є? –Э–Њ –≤–µ–і—М —Б–Ї—Г—З–љ–Њ, –±–µ–Ј–і–∞—А–љ–Њ –Є
—Б–Ї—Г—З–љ–Њ, –≤–µ–і—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —В–≤–Њ—А–Є—В—М, –∞ –љ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е
—З—Г–і–∞–Ї–Њ–≤.
-–Т—Л –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, - –њ–µ—А–µ–±–Є–ї–∞ –°–Њ–љ—П, –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Ј–∞–і–µ—В–∞—П –Њ–±–Є–і–љ—Л–Љ
—Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–Є. - –Ы–∞–і–љ–Њ, –≤—Л –љ–µ –ї—О–±–Є—В–µ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П, –≤—Л –µ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є,
–Є —П –Ј–љ–∞—О –њ–Њ—З–µ–Љ—Г. –Э–Њ –љ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–Њ. –Т—Л —З–µ—А—Б—В–≤—Л–є, –Ј–∞–њ—Г—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Г–Љ. –Т–Њ—В —Г–ґ
–љ–Њ—З—М –љ–∞ –і–≤–Њ—А–µ, –Љ—Л —Б –≤–∞–Љ–Є —В–Њ–ї–Ї—Г–µ–Љ, –∞ –≤—Л –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –љ–µ –Њ–±–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е
–±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –і—Г—И–Њ–є –ґ–Є—В—М?
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Њ–њ—П—В—М –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–Ї–љ–∞, –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–≤—И–Є–є
—Б–Є–ї—Г—Н—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –µ–є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ —В–µ–Љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Њ–Љ –≤ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ.
-–Р –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –°–Њ–љ—П, - –≥–ї—Г—Е–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М –Є–Ј –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞, - –≤—Л –і–µ–ї–∞–µ—В–µ –≤–Є–і,
–±—Г–і—В–Њ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П, –≤—Л –њ—Л—В–∞–µ—В–µ—Б—М –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л
–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є—В—М –Ј–∞ —В—Г –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Г—О –љ–Њ—З—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П...
-–Э–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г—З—В–Є–≤–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Љ–љ–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, - –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї–∞—Б—М –°–Њ–љ—П.
-–Ъ —З–µ—А—В—Г —Г—З—В–Є–≤–Њ—Б—В—М. –°–Њ–љ—П, –≤—Л –µ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є. –°–ї—Л—И–Є—В–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ
–ї—О–±–Є–ї–Є, —П –ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Л —Б—В–µ—Б–љ—П–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ. –Э—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ, –≤—Л –µ–Љ—Г
—Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ф–∞, –Њ–љ –±—Л–ї –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤, –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–љ, –љ–Њ —Б–µ—А, –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ —Б–µ—А, –Є
—А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –љ–∞–ї–µ—В–µ–ї –±—Л –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —И–∞–ї–Њ–њ–∞–є —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–є –Є —Г–≤–µ–ї –±—Л –≤–∞—Б,
–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—О - –≤—Б–µ –Њ–і–љ–Њ. –Ш –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –±—Л —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є, —Б—В–∞–ї–Њ
–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤—Л —Е–Њ—В—М —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–ї–Є? –Я–Њ—Й–µ—З–Є–љ–∞, –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ—Й–µ—З–Є–љ–∞,
–≤–Њ—В –Є –≤—Б–µ, –љ–∞ —З—В–Њ –≤–∞—Б —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ... - —В—Г—В –Њ–љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П, —Б–Ї—Г–Ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П,
–Њ–±–Љ—П–Ї, —Г–њ–∞–ї –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –µ–є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є. - –°–Њ–љ—П, –°–Њ–љ—П, –њ—А–Њ—Б—В–Є, —П –љ–µ–≥–Њ–і—П–є. –Э–Њ
–њ—А–Њ—Б—В–Є, –Љ–љ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ, —П —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–Њ–±–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї—О—Б—М –Є–і–Є–Њ—В–Њ–Љ. –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–∞–є—В–Є
–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–љ–∞, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –∞ –Ј–љ–∞—О, –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ
–Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П –Њ—Б–Њ–±–∞—П –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞, —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г
–љ–∞–є—В–Є –µ–≥–Њ. –Ґ—Л –Љ–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞, —Б–ї—Л—И–Є—И—М, –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–љ–∞, —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞. –£
–Љ–µ–љ—П –≤–µ–Ј–і–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –≤—Б–µ —В—А–µ—Й–Є—В, –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞–є –Љ–µ–љ—П, –љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є, —Б–њ–∞—Б–Є –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї
—Б–њ–∞—Б–ї–∞ –Љ–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є...
-–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ?! - –°–Њ–љ—П —З—Г—В—М –љ–µ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П. –Ю–њ—П—В—М,
–Њ–њ—П—В—М —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П, —А–Њ—Б, —А–∞–Ј–±—Г—Е–∞–ї. - –Т–∞–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤?
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —П –≤–µ–і—М –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Л
–Ј–љ–∞–µ—В–µ?
-–ѓ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, - –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–µ–±—А–Є—В—Г—О —Й–µ–Ї—Г –µ–є –љ–∞ —А—Г–Ї–Є, —И–µ–њ—В–∞–ї
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. - –Я–Њ –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж–µ.
-–Э–µ –Љ–Њ—А–Њ—З—М—В–µ –Љ–љ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г.
-–Ф–∞, –њ–Њ –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж–µ. –Ю–љ–∞ —Г –≤–∞—Б –њ—А–Є—И–Є—В–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –і–µ–ї–∞–µ—В –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞.
–Т–Є–і–Є—И—М, –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–Њ–Љ –Є –Ї—А–µ—Б—В–Є–Ї–Њ–Љ.
–°–Њ–љ—П —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤—Л–і–µ—А–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї—Г. –Я–µ—А–µ–і –Њ—В—К–µ–Ј–і–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–∞ –≤ –†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ
–Є –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Ї—Г–і–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Ч–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Є —Н—В–Њ –њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В
–±—Л—В—М, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞, –Є –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –і–∞–ї—М—И–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—В–∞–ї–∞, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞
–Ї–∞—З–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –љ–µ –љ–∞–≥–Є–±–∞—П—Б—М, –љ–∞–і–µ–ї–∞ —В—Г—Д–ї–Є. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞, –±—Г–і—В–Њ –µ–≥–Њ
—А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Є –Ј–∞—Б—В—Л–ї–∞, –≥–ї—П–і—П –≤ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ. –Я—А–Њ—И–ї–∞
–љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Є–љ—Г—В–∞, –і—А—Г–≥–∞—П. –І—В–Њ –Њ–љ–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Ј–і–µ—Б—М, —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–µ
—Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В? –Ґ–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –µ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –С–µ–Ј–і–∞—А–љ–Њ, –∞—Е –Ї–∞–Ї
–±–µ–Ј–і–∞—А–љ–Њ. –Р –≤–µ–і—М –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л, –Є –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ! –У–Њ—А—М–Ї–∞—П —Г—Б–Љ–µ—И–Ї–∞
–њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –µ–µ –≥—Г–±–∞—Е. –Ф–Њ—З—М –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—П, –ґ–µ–љ–∞ –њ–Њ—Н—В–∞. –Я—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—П
–±–Њ–ї–Њ—В, –њ–Њ—Н—В–∞ —Б–±–µ—А–µ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞—Б—Б. –≠—В–Њ—В —Г–Љ–љ–Є–Ї –њ—А–∞–≤ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ - —Б–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –±—Л,
–µ–є-–±–Њ–≥—Г, —Б–±–µ–ґ–∞–ї–∞. –Ъ—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –≤
–њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М. –ѓ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —П —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М. –Ю–љ–∞
–њ—А–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Њ —Б–µ–±—П —Н—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–ї–µ–і–Є–ї–∞ - –≤–Њ—В-–≤–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б
–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П, –µ—Й–µ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М, –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–љ–∞ –љ–µ
—В–∞–Ї–∞—П. –Ю–љ–∞ –Ј–љ–∞–µ—В, –µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є. –Э–µ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є. –Ю–љ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В
–і–Њ–ї–≥–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Э–Њ –≤—Б–µ —И–ї–Њ –і–∞–ї—М—И–µ, –Є –Њ–љ–∞ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ
—Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Л.
–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ф–∞, –Њ–љ–∞ —З–µ—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –†–∞–Ј–≤–µ —Б—В—Л–і–љ–Њ,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±—П —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞? –Э–µ—В, —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ,
–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Я—Г—Б—В—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ–Ј —Е–∞–Љ—Б—В–≤–∞, –±–µ–Ј –≥—А—Г–±—Л—Е –љ–∞–Љ–µ–Ї–Њ–≤. –£ –љ–µ–µ
–Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –≥—А—Г–і—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П,
–≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–∞—В—М. –Я—Г—Б—В—М –Љ–µ—З—В–∞—О—В, —Б—В—А–Њ—П—В
—Б–љ–Њ–≥—Б—И–Є–±–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л, –њ—Г—Б—В—М –і–Њ–±–Є–≤–∞—О—В—Б—П, —Б—Г–µ—В—П—В—Б—П, –њ—Г—Б—В—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж,
—И–µ–≤–µ–ї—П—В –Љ–Њ–Ј–≥–∞–Љ–Є - —З–µ–Љ –Є –Ї–∞–Ї, –љ–µ—З–µ–≥–Њ –ї–µ–љ–Є—В—М—Б—П! –У–ї–∞–Ј–∞ –µ–µ —Б—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞
–≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–µ—А, –Є –Њ–љ–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —Г–≥–∞–і–∞–ї–∞. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ј–∞
—Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ? –Р, –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—Г—Б—В—П–Ї–Є,
–њ–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П. –Ъ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞, –µ–є —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –ґ–Є—В—М,
–њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—В–≤–Њ—А–Є–ї —Н—В–Њ—В —З—Г–і–∞–Ї, —В–Њ–ґ–µ —З—В–Њ-—В–Њ –±—Г–і–µ—В. –Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ
–±—Г–і–µ—В. –Ю–љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –ї—О–±–Є—В –Љ–µ–љ—П, –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ. –Э–µ—В, –Ї–∞–Ї–Њ–≤ —Д—А—Г–Ї—В -
—Б–ґ–Є–ї —Б–Њ —Б–≤–µ—В—Г –Њ—В—Ж–∞, –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—А–µ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –Ј–і–µ—Б—М
–њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є. –Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, —Б –љ–µ–Ї–Є–Љ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–∞ –°–Њ–љ—П. –Р –≤–µ–і—М
–Њ–љ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –њ–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е. –•–Є—В—А–µ—Ж, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ї–Њ –Љ–љ–µ —В–Њ–≥–і–∞
–њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї—Б—П! –†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–≥ –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М –µ—О —В–Њ–≥–і–∞? –°–µ–є—З–∞—Б, –Љ–Њ–ґ–µ—В
–±—Л—В—М, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —В—Г –љ–Њ—З—М –њ–µ—А–µ–і —Б—В–∞—А—В–Њ–Љ. –Ф–∞,
–Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, —Н—В–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –і–ї—П –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞, —З—В–Њ –±—Л–ї–∞
–љ–µ –≤ —Б–µ–±–µ. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –±—Л–ї –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–љ,
–љ–µ–ґ–µ–љ. –Т—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —В–∞–Ї –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ–Є —В—Л—Б—П—З—Г –ї–µ—В –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є
–≤–Љ–µ—Б—В–µ, –∞ –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –і–∞–ґ–µ –Є –≤–µ–ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ. –Ь—Л—Б–ї—М –Њ
—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—И–Є–ї–∞ –µ–µ. –Ю–љ–∞ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М, –і–∞ —В–∞–Ї, —З—В–Њ
—Е–Њ–Ј—П–Є–љ –і–∞–ґ–µ –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї —В–∞–Љ –≤–љ–Є–Ј—Г, –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е. –Ю–љ–∞ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞, —З—В–Њ
–Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —В–∞–Ї –ї–µ–≥–Ї–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ. –•–Њ—В—М –±—Л —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М
–≤–љ—Г—В—А–Є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Њ, —Б–њ–Њ—А–Є–ї–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї–Њ—Б—М - –љ–µ—В, –љ–µ—В –Є –љ–µ—В. –Ф–∞,
–љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ —В—Г—В –±—Л–ї–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Ј–і–µ—Б—М —Е–Њ–і–Є–ї–∞, –ґ–Є–ї–∞, —Б–њ–∞–ї–∞. –С—Л—В—М
–Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–љ –µ–µ –ґ–∞–ї–µ–ї. –Э—Г –Є —З—В–Њ, –њ—Г—Б—В—М, –≤—Б–µ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ, –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ч–∞—Б—В–∞–≤—Л, –Ґ–µ–Љ–љ–Њ–є, –Њ—В—Ж–∞
–Є –Љ–∞–Љ—Л. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–љ–Є –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Є, –љ–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Є
–љ–µ –±—Л–ї–Є –≤—А–Њ–і–µ. –Т–Њ—В, –≤–Њ—В, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–∞—И–ї–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї–∞. –Э–µ –ї—О–±–Є–ї–Є,
–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є. –Ш –Њ–љ–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–∞, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –Є –љ–µ
–ґ–Є–ї–∞. –Ф–∞, –±—Л–ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –±—Л–ї–Є –Љ–µ—З—В—Л, –љ–Њ –Є–Ј —В–µ—Е –ґ–µ –Ї–љ–Є–≥ –Є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є
–®–љ–Є—В–Ї–µ - –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–Є —А–∞–Ј—Г —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –µ–µ –љ–µ –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї, —Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П,
–±–Њ–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї, –∞ —Б –љ–µ–є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—З–µ.
74
–Т –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї —А–∞—Б—Б–≤–µ—В. –°–Њ–љ—П —Г—И–ї–∞. –Ю–љ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ –љ–µ–є
–Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞. –Т–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ–ї—Г–Љ—А–∞–Ї–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–∞ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П
–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Б–Є–ї—Г—Н—В. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В –Њ –љ–µ–Љ, –њ–Њ–≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞
–Љ–∞—Е–љ–µ—В —А—Г–Ї–Њ–є, –Љ–Њ–ї, —П –µ—Й–µ –ґ–Є–≤—Г —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–Њ—З–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ. –Э–Њ –љ–µ—В. –Ю–љ–∞
–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ, –љ–∞–ї–µ–≤–Њ, –і–∞–ґ–µ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і, –љ–Њ –љ–µ –≤–≤–µ—А—Е, –Ї –µ–≥–Њ
–Њ–Ї–љ—Г, –∞ –љ–∞ —В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤—Л—И–ї–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–∞ –ґ–і–µ—В,
—З—В–Њ —П –±–µ–≥—Г —Б–ї–µ–і–Њ–Љ, - –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–∞ –љ–Њ—З–љ–∞—П –љ–∞–Є–≤–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –Є —В—Г—В –ґ–µ –ї–Њ–њ–љ—Г–ї–∞.
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —Б —Б–Є–ї–Њ–є —Б–ґ–∞–ї –∞—Б–±–µ—Б—В–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ—Б—П–Ї –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ
—Е–Њ—В–µ–ї —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Њ–Ї–љ–Њ, –і–Њ–Љ, —Г–ї–Є—Ж—Г, –≤—Б–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ
–љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ґ–Њ—В—З–∞—Б –Є–Ј –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–Ї–Є–є —В–µ–Љ–љ—Л–є —Б–Є–ї—Г—Н—В
–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –°–Њ–љ–µ, –≤–Ј—П–ї –µ–µ –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г –Є –Њ–љ–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ,
–њ–Њ—З—В–Є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є —Б—В—Г–њ–∞—П, —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Г–≥–ї–Њ–Љ. –І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Ј–∞—Г—А—З–∞–ї –Љ–Њ—В–Њ—А,
–≤–Ј–≤–Є–Ј–≥–љ—Г–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –і–µ–≤–Є—З—М–Є–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –Є –Љ–∞—И–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї–∞
–Љ–Є–Љ–Њ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ.
-–Э–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–є—В–µ, —П —Е–Њ—З—Г –њ–Њ–±—Л—В—М –Њ–і–љ–∞, - –ґ–µ–ї—З–љ–Њ —И–µ–њ—В–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–°–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞–≤–∞–ї–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є–њ–Ї–Њ–µ, –њ—А–Є—В–Њ—А–љ–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–±–∞–Ї–∞
–±–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Њ–є. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—В—Г—И–Є–ї —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Г. –Э–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ
–Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ. –Ю–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –і–∞ –Є
–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ.
–Я–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ–Љ—Г, –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г,
—В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, —А–∞–±—Б–Ї–Њ–µ
–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї —В—А—О–Љ–Њ –Є –±–µ–Ј–Ј–≤—Г—З–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П. –Ш–і–Є–Њ—В—Б–Ї–∞—П –≥—А–Є–Љ–∞—Б–∞
–µ–≥–Њ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–∞. –Ч–∞–Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–µ —В—Г—В –ґ–µ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —З—Г–ґ–Є–Љ –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ
–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –њ—А–Є–є—В–Є –≤ —Б–µ–±—П. –Э–µ
—Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є–ї—Б—П, –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —З—Г–ґ–і–Њ–Љ—Г
–±–µ–Ј–∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г. –Ъ—А–∞—Б–∞–≤—З–Є–Ї, —Н–є, –Ї—А–∞—Б–∞–≤—З–Є–Ї! –І–µ–≥–Њ
—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М? –І—В–Њ –≤–Є–і–Є—И—М? –Ы–Њ–њ–љ—Г–ї–∞ —В–≤–Њ—П —В–µ–Њ—А–Є—П, –њ–Њ —И–≤–∞–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Ј–ї–∞—Б—М. –Э–µ—В—Г
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–µ–є, –љ–µ—В—Г –≥–Њ–ї–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А—М—П–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л, –≤—Б–µ –і–∞–≤–љ–Њ
–Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, –Њ–±–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Њ, —З–µ—А–≤—П—З–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ –Є –≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ–Њ
—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є —Б –ї–∞—В—Г–љ–љ—Л–Љ–Є —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П–Љ–Є –љ–∞ –∞–ї–Љ–∞–Ј–љ—Л—Е
–Њ—Б—П—Е —Б –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–Љ.
–І—В–Њ –Њ–љ –µ–є –љ–∞–Њ–±–µ—Й–∞–ї, —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Е–≤–Њ—Б—В? "–Я–Њ–µ–Ј–ґ–∞–є –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–є
—В–∞–Љ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М. –Э–µ –њ–Њ–µ–і–µ—И—М, —П –њ–Њ–µ–і—Г —Б–∞–Љ–∞!" –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Є,
–Њ–љ–∞ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ –ї—О–±—Г—О –љ–µ–ї–µ–њ—Г—О –Є–і–µ—О, –ї–Є—И—М –±—Л –≤—Б–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М. –Ф–∞ –љ–µ—В, –≤–µ–і—М
–Њ–љ–∞ –љ–µ —В–∞–Ї –≥–ї—Г–њ–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ј–і–µ—Б—М –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–∞ –Љ—Б—В–Є—В –µ–Љ—Г,
—Б—В–∞–≤–Є—В –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞–µ—В, –Љ—Г—З–∞–µ—В, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П —Б–≤–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і
–љ–Є–Љ. –Ф–∞, –і–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Ю-–Њ, –Њ–љ –Ј–љ–∞–µ—В, –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т—Б–µ –Є–≥—А–∞, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ
–Њ–±—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є—Е –±—Г–і—Г—Й—Г—О –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М —Ж–µ–ї—Л–Љ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ,
–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є. –Ч–∞—З–µ–Љ? –Ч–∞—З–µ–Љ, –≤–µ–і—М —В–Њ–≥–і–∞, –≤ —В—Г –љ–Њ—З—М –њ–µ—А–µ–і —Б—В–∞—А—В–Њ–Љ
–µ–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ, –њ—А–Њ–є–і–µ–љ —Б–∞–Љ—Л–є —В—П–ґ–µ–ї—Л–є —Н—В–∞–њ –Є –і–∞–ї–µ–µ
–љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–∞—П —Д–∞–Ј–∞, –і—А—Г–≥–Њ–є –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В - —В–µ–њ–ї–Њ–µ –±–µ–Ј–±—А–µ–ґ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є
–њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—В—М. –Ф—А—Г–≥–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М
–љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї. –Э–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Њ–љ–Є –µ–≥–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Є–ї–Є. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞—Б—Б–Є—А, —З—В–Њ –љ–∞–Љ
–њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –њ–Њ–і —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ. –І—В–Њ –µ–Љ—Г —Е–ї–Є–њ–Ї–Є–µ –±–µ—А–µ–≥–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ
—Г–ґ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –≤–Ј–ї–µ—В–µ—В—М –њ–Њ–≤—Л—И–µ –њ—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З—В–∞–љ–Є–є.
–Ґ—Г—В, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —Б–µ—А–і—Ж–µ —Г –°–µ—А–≥–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ
—Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–і–љ—Л–≤–∞—В—М. –Р—Е, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї, —В–Є—Е–Є–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ,
–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М, –Є–і—В–Є –≤ –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ј–∞–±—Л—В—М
–Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ –±–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–∞—П –Є –±—Г–і—Г—Й–∞—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ф–∞, –і–∞, –њ—Г—Б—В—М –≤—Б–µ –ї–µ—В–Є—В –Ї —З–µ—А—В—П–Љ, –≤—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П
–њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤—Б–µ —Н—В–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ, –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–µ –Є–і–µ–Є. –Я—Г—Б—В—М –≤—Б–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–µ—В –њ—А–Њ–њ–∞–і–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ
–Љ–∞—В—М, –ї–Є—И—М –±—Л –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —В–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г, –≥–і–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Е–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Г–ґ–µ –і–Њ –љ–µ–≥–Њ
–±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Е—Г–і—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є.
–Ю–љ –Њ–њ—П—В—М –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –Т–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М
—В–µ–Љ–љ–Њ—В–Њ–є, –°–Њ–љ—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М.
-–Ф–ї—П —З–µ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є–є –Љ–Є—В–Є–љ–≥?
-–Ъ–∞–Ї–Њ–є? - –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
-–Ґ–Њ–≥–і–∞, –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є.
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–ґ–∞–ї –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –љ–Њ –љ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ, –∞ —Б –њ–ї–Њ—Е–Њ
—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ.
-–Р –і—Г—Е–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –Ј–∞—З–µ–Љ?
-–Ю, –Ј–і–µ—Б—М —Г–ґ–µ –љ–µ —П, - –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–і—Г—П—Б—М, –Њ—В–љ–µ–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В.
- –Я–Њ–ґ–∞—А–љ–Є–Ї–Є - —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–µ, –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤–∞.
–°–Њ–љ—П —Б –і–Њ—Б–∞–і–Њ–є –Љ–∞—Е–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї–Њ–є.
-–Ь–∞–ї—М—З–Є—И–µ—Б—В–≤–Њ, —И–∞–ї–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –њ—А–Є—З–µ–Љ –Ј–і–µ—Б—М –ї—О–і–Є, —Б–Њ—В–љ–Є, —В—Л—Б—П—З–Є
–ї—О–і–µ–є? –Ю–љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –±—Л—В—М –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—Б–Љ–µ—П–љ–љ—Л–Љ–Є? "–Ю–±—К—П–≤–Є—В—М –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–Љ
–і–љ–µ–Љ –Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Ї –Њ—В–њ—Г—Б–Ї—Г," - –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –°–Њ–љ—П. - –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г –љ–Є—Е
–Њ—В–њ—Г—Б–Ї –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ: –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л, –Њ—В —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –Њ—В
—Б–µ–Љ—М–Є. –Т–Њ—В —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В, –≤–Њ—В –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї. –Ю, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, –≤—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є –љ–∞–і—Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞–і
—Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є. –Р—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ–ї—Л–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б–Ї–Њ–Ї, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А—Л—В–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Њ—В–≤–∞–≥–Є. –ѓ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞, –µ–є-–±–Њ–≥—Г, –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А...
–Р —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В? –†–∞–Ј–±–Є—В—Л–µ —Б—Г–і—М–±—Л –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–≤–Є–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –І—В–Њ –ґ–µ –і–Њ
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Њ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–Ї—А–µ–њ–ї–Њ. –Т—Б–µ –љ–µ—А—Г—И–Є–Љ–Њ, —Б—В–Њ–Є—В –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ–є
—Б–Ї–∞–ї–Њ–є, —Б–µ—А–Њ–є, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞
–†–Њ–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤–∞. –Ф–∞, –і–∞, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –†–Њ–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤ –ґ–Є–≤–µ—В –Є –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В,
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–µ –Ј–∞—И—В–∞—В–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ
–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ.
–Э–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
-–Э–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є? - –°–Њ–љ—П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є–µ –°–µ—А–≥–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞. - –≠—Е –≤—Л,
–≥–Њ—А–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–≤–Њ–µ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є —Г–Љ! –≠—В–Њ—В –≤–∞—И —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї –њ—А–∞–≤, –µ—Б—В—М, –≤–Є–і–љ–Њ,
—В–∞–Ї–∞—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –Љ–∞—И–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і–Љ—П–ї–∞ –≤—Б–µ
–≤–∞—И–Є –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –µ—Б—В—М –Є–ї–Є –љ–µ—В, –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, –љ–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞
—Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –Є–Ј –њ–ї–µ–љ–∞ —А–∞–± —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–Љ –Є–Ј
–њ–ї–µ–љ–∞ —А–∞–±–Њ–Љ. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З? –Ъ–∞–Ї–Њ–є —Г–ґ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є
–њ–Њ–Є—Б–Ї —Б —А–∞–±—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є, - —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї, –°–Њ–љ—П —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞
–Њ—Б–Њ–±—Г—О –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—О. - –Ф–∞ –≤—Л –Є —Б–∞–Љ–Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ,
–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Б –≤–∞–Љ–Є - –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В, - –°–Њ–љ—П
–і–∞–ґ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—Б–µ–ї–Є–ї–∞—Б—М. - –Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—Б...
–Ф–∞, –Њ–љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞, —П - –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В, —Б—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–ґ–µ–ї—В–µ–≤—И–Є–є
—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї. –°–Ї–Њ—А–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ—О—В—Б—П –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є, –љ–∞—З–љ—Г—В
–њ—А–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –±–Є–ї–µ—В—Л, –±—Г–і—Г—В —Б–Є–і–µ—В—М –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Л –Є —Б–ї–µ–і–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥
–і–µ—В–Є—И–Ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —В—А–Њ–≥–∞–ї–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Т–Њ—В –Њ–љ–∞, –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞-–Љ—Г–Ј–µ–є, –≤–Њ—В –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В,
–≤–Њ—В —Б–њ–∞–ї—М–љ—П, –ґ–Є–ї —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї, –љ–µ –ґ–∞–ї–µ–ї —Б–µ–±—П... –Т–Њ—В —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й
–°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–Є —Б–Ї–Њ–Љ–Ї—Л–≤–∞—В–µ–ї—П –ї–ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–∞–Ї—Г—Г–Љ–∞,
—А—П–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Ї–Њ–ї–µ–≥–Є, –Њ–±–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П, —Ж–µ–ї—Г—О—В—Б—П - —А–∞–Ї–µ—В–∞ –≤–Ј–ї–µ—В–µ–ї–∞ –љ–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є
—И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –њ—П—В—М –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —И–∞–≥–Њ–≤! –Р —В—Г—В –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —Б–µ—А–∞—П
—И–Є—А–Њ–Ї–∞—П —Б–њ–Є–љ–∞, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –Њ–Ї–Њ–ї—Л—И–µ–Ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–Є, –±—А–∞–≤—Л–µ —Г—Б—Л, –Ј–∞
–љ–Є–Љ–Є –≤—Л–≥–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –ї–Є—Ж–Њ -
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є
—Г–ґ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є, - —Г–і–Є–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л. –Э–∞–і
–≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –њ—Г—Б—В—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –≥–і–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —З–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–Є,
–Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ: "–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Њ—В–і–∞–ї —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞ –і–µ–ї–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П
—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В –њ—Г—В –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —В—П–ґ–µ—Б—В–Є". –Т–љ—Г—В—А–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Г—З–µ–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–µ—В
–љ–µ–Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ–і —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ N-—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є: "–У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А, –Њ—В–і—Л—Е–∞—П –≤–Њ –≤–љ–µ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–µ
–≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–µ, —А–Є—Б–Ї—Г—П –ї–Є—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, —Б–њ–∞—Б –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Т.–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞".
–†—П–і–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Т–∞—Б–Є –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞
–Љ—Г–Ј–µ—П, –Є —В—Г—В –ґ–µ –Њ–љ–Є –≤–і–≤–Њ–µ–Љ, –љ–∞–Љ–µ—З–∞—О—В –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–љ—Л. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ,
—Д–Њ—В–Њ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ —Б–і–µ–ї–∞–љ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ–Є–Љ–Њ, –Є –Ї–∞–Ї
–±—Г–і—В–Њ –і–∞–ґ–µ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞. –Р —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ –њ—А–Є
–≤–њ–µ—З–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є–Є, –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Є
–Ј–ї–Њ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ —Г–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —П–≥–Њ–і–Є—Ж—Г —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї—Г. –Ґ—Г—В
–ґ–µ, –≤ —Г–≥–ї—Г, —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ—Л–є —П—Й–Є–Ї, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б—В–∞–≤—П—В –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞—Е, —Б
–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Я–Њ—В–µ—А—В—Л–є –≤–µ–ї—М–≤–µ—В–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ —Б
–Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞—И—В–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–∞–≤–Њ–Љ, –љ–∞ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ —Б—В–∞—А–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б–љ–∞—П
–Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞ –Є —Б–Љ–Њ—А—Й–µ–љ–љ—Л–є, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–є –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–є –±–ї–µ—Б–Ї –њ–µ—З–µ—А—Б–Ї–Є–є
–Ї–∞—И—В–∞–љ. –Ф–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї, –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В —В–∞–Ї. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –µ—Й–µ —А–∞–Ј
–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —И–Ї–∞—Д–∞. –Ы–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є,
–±—Г–і—В–Њ —А–µ–і–Ї–Є–µ –∞–Ї–≤–∞—А–Є—Г–Љ–љ—Л–µ —А—Л–±—Л, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–ї–Є, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —И–µ–≤–µ–ї—П
—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–ї–∞–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –†—Л–±—Л - —Н—В–Њ –њ—В–Є—Ж—Л –Љ–Њ—А–µ–є, –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞—П
–Љ—Л—Б–ї—М. –Т–Ј–≥–ї—П–і –µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї –њ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–µ, –њ–Њ —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–ї–µ—Б–Њ–Љ—Г
–њ—П—В–љ—Г –љ–∞ —З–µ—И—Г–є—З–∞—В–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ –Њ–±—В—А–µ–њ–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г, –≤ –ї–Њ—Е–Љ–Њ—В—М—П—Е, –Њ–±—А–µ–Ј—Г.
–°—В–Њ–њ. –Ю–љ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї —Б–µ–±—П –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≥—А—Г–і–Є. –°—Г–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ—И–∞—А–Є–ї
–≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ—А–і—Ж–∞ - –љ–µ—В! –Я–Њ—А—Л–ї—Б—П –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞—Е. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–±–∞—З–љ–∞—П –њ—Л–ї—М, –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ
–Љ–µ–ї–Њ—З—М, –Ї–∞—И—В–∞–љ, –Є –≤—Б–µ. –Т—Л–±–µ–ґ–∞–ї –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤ –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є,
–њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ–Ј –≤ —Б—В–µ–љ–љ–Њ–є —И–Ї–∞—Д, –≤—Л–љ—Г–ї –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Ї—Г, —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–ї –њ—Г—Б—В—П–Ї–Њ–≤—Л–µ
–≤–µ—Й–Є - –±–µ–Ј—А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–љ–Њ. –С—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ—О, –Ј–∞—И–µ–≤–µ–ї–Є–ї –≥—Г–±–∞–Љ–Є,
–њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—П—Б—М –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г. –Э–µ—В, –љ–µ —В–Њ. –Ю–љ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞, –њ—Л—В–∞—П—Б—М
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—О... –Э–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Р –≤–µ–і—М –µ–Љ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ
–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–µ–Љ—М —Ж–Є—Д—А, –і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –∞ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є
–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Њ–Ї–ї—П—В–∞—П –і—Л—А—П–≤–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ј–∞–±—Л–ї –µ–µ —В–∞–Љ, –≤
–і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞—Е, –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е —Б—В–µ–љ ?
–†–∞—Б—В—П–њ–∞, –±–∞–ї–∞–Љ—Г—В. –°—Е–≤–∞—В–Є–ї —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Г—О —В—А—Г–±–Ї—Г, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М
–њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤. –Э–µ–Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б—Л —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ —А–∞—Б—Б–∞—Б—Л–≤–∞—О—В—Б—П.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –±–µ–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В—Г–ї, –Њ–±–Љ—П–Ї, —Б–≥–Њ—А–±–Є–ї—Б—П. –£–Љ–љ–Њ–Љ—Г
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Х–Љ—Г –µ—Б—В—М –Њ —З–µ–Љ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–Љ –і—Г–Љ–∞—В—М, –Љ–µ—З—В–∞—В—М, —Г
–љ–µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–≥–Њ –Ј–∞ –і—Г—И–Њ–є –њ—А–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б. –£–Љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї - –Ј–∞–њ–∞—Б–ї–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
–Ю–љ –љ–µ –ґ–∞–і–љ—Л–є, –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Б–µ –Њ—В–і–∞—В—М, –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М, –љ–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж
—З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–∞ –њ—А–Є–±–µ—А–µ–ґ–µ—В, –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–µ—Й—М –Є–ї–Є –Љ—Л—Б–ї—М. –І—В–Њ –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П
—А—Г–±–∞—И–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ —И–Ї–∞—Д—Г –Ї–Њ—Б—В—О–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Њ–љ –ґ–Є–≤–µ—В —Н—В–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є
–њ—А–Є–њ—А—П—В–∞–љ–љ–Њ–є –≤–µ—Й—М—О, —Е–Њ—В—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В –Њ –љ–µ–є –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г,
–љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–Ї–∞ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–є —З–µ—А—В—Л. –Ч–љ–∞–µ—В, —З–µ–Љ —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М –≤
–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г. –Ш –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥, –µ—Б–ї–Є –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –ї–µ—В –µ–≥–Њ
–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞—Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ–Є—Б—В—А–µ–њ–∞–ї–∞—Б—М, –Є—Б—В–µ—А–ї–∞—Б—М –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ
—Б–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ—В.
–Э–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М. –Ю–љ —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В - –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В,
–±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П,
–≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї –Є –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї. –°–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥—Г, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г,
–ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –Є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–µ–љ—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –≤—Б–њ—Г–≥–љ—Г—В—М, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ
–≤–µ—А—П –µ—Й–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ, –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї—Б—П –Ј–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Њ–є. –°—В–µ—А—В–∞—П
—З–µ—И—Г–є—З–∞—В–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–±–ї–∞—Б–Ї–∞–љ–љ–∞—П –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–∞—В–ї–Є–≤–Њ —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤
–љ—Г–ґ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Ч–∞—Б–Ї—А–Є–њ–µ–ї —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–є –Ї–Њ–і. –Ч–∞ –љ–Є–Љ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ–Є –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–∞–Љ–Є
–Њ—В–Ј–≤–µ–љ–µ–ї–Њ —Б–µ–Љ–Є–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –Є –≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є —А–∞–Ј, —В—А—Г–±–Ї—Г –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ
–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Х–≥–Њ —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Њ, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Њ—В—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї
–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є.
-–Р–ї–ї–Њ! –Ъ—В–Њ —Н—В–Њ?
-–ѓ.
-–Ъ—В–Њ —П? - –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б.
-–ѓ, - –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
-–Т—Л —З—В–Њ, –Є–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В–µ—Б—М? –Т—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–∞—Б?
–Ґ—Г—В –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –Њ–Ї–љ–Њ. –Ф–Њ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
–њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞.
-–Р —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є?
-–Т—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є —Г–Ј–љ–∞—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є? –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, —П
–≤–∞–Љ —Б–Ї–∞–ґ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–µ–њ–µ—А—М —З–∞—Б, –Є –≤—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–µ. –Я–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞
—З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ. –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П.
-–Я–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, - –Ј–∞—Б—Г–µ—В–Є–ї—Б—П –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. - –≠—В–Њ —П, –У–Њ—А—Л–љ—Л—З.
-–Ґ—Л-—Л-—Л, - –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є –≤ —В—А—Г–±–Ї–µ.
–Ф–∞, –µ–≥–Њ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є, –љ–Њ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–њ–µ—В–∞, –∞
–Ї–∞–Ї-—В–Њ –±—Г–і–љ–Є—З–љ–Њ, –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В —Б—В–∞—А–Њ–µ, –і–∞–≤–љ—Л–Љ-–і–∞–≤–љ–Њ
–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ
—Б–Є–ї, –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –љ–µ —Б –љ–Є–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ, –∞
—Б –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ.
-–Р–ї–µ.
-–Ф–∞, –і–∞, —П —Б–ї—Г—И–∞—О. –Ґ—Л —Е–Њ—В–µ–ї —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М?
-–Ф–∞.
-–У–Њ–≤–Њ—А–Є –ґ–µ.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –љ–∞–±—А–∞–ї –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –Є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–і–Њ—Е–љ—Г–ї:
-–ѓ —Г–±–Є–ї –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–∞.
-–§—Г —В—Л, –љ–∞–њ—Г–≥–∞–ї, - –≤ —В—А—Г–±–Ї–µ –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–Є. - –ѓ —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞,
–≤–њ—А–∞–≤–і—Г —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М.
-–Я–Њ—Б—В–Њ–є, —В—Л –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–∞. –ѓ –µ–≥–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г–±–Є–ї.
-–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —З—В–Њ –Ј–∞ –≤–Ј–і–Њ—А. –Ґ—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є, —З—В–Њ —В—Л —В–∞–Ї–Њ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М. "–Э–∞
—Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г–±–Є–ї, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П". –°–µ—А–µ–ґ–∞, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤ –ї–Є —В—Л? –Т—Л–њ–µ–є —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є
–Ј–∞—Б–љ–Є. –Ш —З—В–Њ –Њ–љ —В–µ–±–µ –і–∞–ї—Б—П! –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–∞, –±—Г–і—В–Њ —В—Л –Љ–Њ–ґ–µ—И—М
—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ... - –љ–∞ —В–Њ–Љ
–Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, - –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, —З–µ—А—В —Б –љ–Є–Љ, –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–є.
–Я–Њ–і–µ–ї–Њ–Љ –µ–Љ—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –ґ–∞–ї–Ї–Њ, –љ–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –Њ–љ –Ї—А–Њ–≤–Є –≤—Л–њ–Є–ї —Б–∞–Љ?
-–°–Ї–Њ—А–Њ –Њ–њ—П—В—М –Є—О–ї—М, - –≤–і—А—Г–≥ –љ–Є —Б —В–Њ–≥–Њ –љ–Є —Б —Б–µ–≥–Њ –≤—Л–і–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
-–Ґ—Л —Б—В–∞–ї —З–∞—Б—В–Њ –Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М, - —В–µ–њ–µ—А—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ.
-–ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —А–∞–љ—М—И–µ, –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л.
-–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –£ –љ–∞—Б —Г –≤—Б–µ—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –њ–∞—Г–Ј–∞. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П, —Б–±–Є—В—Л–є —Б —В–Њ–ї–Ї—Г
–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В–Њ–љ–Њ–Љ –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–∞. –Я–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П.
-–Я–Њ–Љ–љ–Є—И—М, —В–Њ–≥–і–∞ –і–∞–≤–љ–Њ, –±—Л–ї –≤–µ—З–µ—А, –Љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–∞—Е –Є –±–Њ–ї—В–∞–ї–Є
–љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ –≤–Њ–і–µ. –С—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–ї—Г–љ–Є–µ, –Є –≤–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –≤–Њ–і–∞, –∞ –њ–∞—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ. –Ш
–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞. –Ф–∞, –Є —В—Л –µ—Й–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: –њ–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ —Б—В–µ–љ–∞–Љ –і–≤–Є–ґ—Г—В—Б—П
–њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї–Є.
-–ѓ —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞? - –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–є
–Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. - –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М.
–°–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –њ–∞—Г–Ј–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —И—Г—А—И–∞–љ–Є–µ, –љ–∞ —В–Њ–Љ
–Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ–µ—А–µ—И–µ–њ—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –і–∞–ґ–µ —Е–Є—Е–Є–Ї–љ—Г–ї–Є. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Б–Њ–≥–љ—Г–ї—Б—П,
–Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є —В—П–ґ–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
-–Ъ—В–Њ —В–∞–Љ? - –µ–ї–µ –њ—А–Њ–Ї—А—П—Е—В–µ–ї –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ.
-–Ґ—Г—В —В–Њ–ґ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–∞—Б.
-–Ъ—В–Њ?
-–Ъ–∞–Ї –Ї—В–Њ, –Љ—Г–ґ.
–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї –µ—Й–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: –Ї–Њ–≥–і–∞? –Э–Њ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П. –Э–∞—З–∞–ї
–љ–µ–Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ —И—Г—В–Є—В—М, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–Є–≤–µ—В—Л –Є –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П, –Є–Ј–≤–Є–љ—П—В—М—Б—П –Ј–∞ —А–∞–љ–љ–µ–µ
–≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—В—М –і—А—Г–ґ–Є—В—М —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї –≤ –≥–Њ—Б—В–Є, –Њ–±–µ—Й–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М,
–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П, —Б–ї—Г—И–∞–ї, –њ–Њ–і–і–∞–Ї–Є–≤–∞–ї –Є, —Б–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –і–µ–ї–∞, —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ
–њ–Њ–њ—А–Њ—Й–∞–ї—Б—П.
–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї–µ–Ј –≤ –Љ—Г—Б–Њ—А–љ–Њ–µ –≤–µ–і—А–Њ, –і–Њ—Б—В–∞–ї –Њ—В—В—Г–і–∞ –њ—Г—Б—В—Г—О –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г, –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї
–µ–µ –њ–Њ–і –Ї—А–∞–љ, –і–Њ–ї–≥–Њ –Љ–Њ—З–Є–ї —В–µ–њ–ї–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є, –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ —Б–љ—П–ї –љ–∞–Ї–ї–µ–є–Ї—Г –Є
–њ—А–Є–ї–µ–њ–Є–ї –µ–µ –љ–∞ —Б–µ—А–Њ-–≥–Њ–ї—Г–±–Њ–є –Ї—Г—Е–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–∞—Д–µ–ї—М. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Њ–љ –і–µ–ї–∞–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ
–љ–µ—А–≤–љ–Њ, –≤ —Б–њ–µ—И–Ї–µ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±–∞—А–∞—Е—В–∞–ї—Б—П, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ
–ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Є–ї–Њ. –Ф–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Њ–љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–ї, –Є–љ–∞—З–µ –Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–Љ—Г
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г —З–∞—Б–∞–Љ–Є –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ —Б–Є–і–µ—В—М –і–∞ –≥–ї—П–і–µ—В—М –≤ –±–µ–Ј–≤–Ї—Г—Б–љ—Г—О, –њ–Њ—И–ї—Г—О
–±—Г—В—Л–ї–Њ—З–љ—Г—О –љ–∞–Ї–ї–µ–є–Ї—Г.
75
–Я—А–Є—И–ї–Њ –ї–µ—В–Њ –Є –≤ –†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–µ. –Т—Б–Ї—А—Л—В–∞—П —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П
–Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–±–Њ—В—Г –±—Г–є–љ—Л–Љ –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—А–∞–≤—М–µ–Љ. –Э–∞
–њ–Њ–ї—П—Е —И–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л, –љ–∞ –њ—А–Є—Г—Б–∞–і–µ–±–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е
—Г–ґ–µ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–∞—А–∞–і —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –Њ–≤–Њ—Й–љ—Л–µ —А–Њ–і–∞
–≤–Њ–є—Б–Ї - –≥—А—П–і–Ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ –ї—Г–Ї–∞, –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Є, —А–µ–і–Є—Б–Ї–Є, —Г–ґ–µ –Ї–Њ–µ-–≥–і–µ –њ—А–Њ—А–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ
–Є–Ј–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –њ–Њ –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–∞–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ
—Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–∞—П –≤–µ—Б–љ–∞, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –њ–Њ—А–∞
—А–∞–і–Њ—Б—В–Є. –Ч–љ–∞—В–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї—П—Е, –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞
–Ї—А—Г—В–Є–ї–∞—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г –±–Њ—Б–Њ–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Љ—П—Б–Њ-–Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є,
–Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З –њ–Є–ї. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ —Г—В—А—П—Б–ї–Њ—Б—М, –њ—А–Є—В–µ—А–ї–Њ—Б—М, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Њ—Б—М.
–Э–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ. –Т —Н—В–Њ–є –Є–і–Є–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –≥–Њ—А—М–Ї–∞—П
–Є–љ–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞. –Х—Б–ї–Є –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–≤–Є–і–µ–ї –µ–µ —Б—Л–љ –°–µ—А–≥–µ–є, –Є–ї–Є —Б—В–∞—А—И–Є–є
–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є, –љ–Њ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–є –µ–µ —Е–Њ—В—П
–±—Л –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ—Е –Ї–∞–Ї –±—Л —Н—В–Є –ї—О–і–Є –Њ—Й—Г—В–Є–ї–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л
–њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –Ю–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞—А–µ–ї–∞, –Є–Ј –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є, –љ–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –≤–µ—З–љ–Њ
–≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–є –і–∞—В—М –Њ—В–њ–Њ—А –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—В–∞—А—Г—Е—Г. –Ш –љ–µ
—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А—П—Е–ї–Њ—Б—В—М—О –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ, –Є
–Њ—В—В–Њ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј. –° –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –Ї
–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В—А—Г–і—Г, –ї—О–±–Є–≤—И–∞—П –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –њ—Л–ї–Є –Є –≥—А—П–Ј–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П
–љ–∞ –±–µ–ї—Л–є —Б–≤–µ—В –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ —Б—В–µ–±–µ–ї—М–Ї–Є, –Њ–љ–∞ –љ–µ
—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –±—Г–є–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В—Г –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ
–µ–µ.
–° —Г—В—А–∞ –Њ–љ–∞ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—А—Г—О –њ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И—Г—О—Б—П —В–∞–±—Г—А–µ—В–Ї—Г –Є –і–Њ
–≤–µ—З–µ—А–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ —Б–∞–і—Г, –≥–ї—П–і—П –њ—Г—Б—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ї—А–Є–≤—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л
—В—А–µ—Е –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е —П–±–ї–Њ–љ—М. –Ю —З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –і—Г–Љ–∞–ї–∞? –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Э–µ–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –Ь–Њ–ґ–µ—В
–±—Л—В—М, –Њ–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–µ –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ. –У–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ
–≤—А–µ–Љ—П, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—З–∞–≤–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—Б—В–∞, –Ј–∞—В—П–ґ–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞—И—О—В–љ—Л–µ –њ—А—Л–ґ–Ї–Є –≤
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –љ–∞–і —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–Љ, –Ї—Г–і–∞, –≥–Њ–љ–Є–Љ–∞—П –љ—Г–ґ–і–Њ–є, –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –Є–Ј
–і–µ—А–µ–≤–љ–Є. –°–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П, —Б–≤–Њ–µ–љ—А–∞–≤–љ–∞—П, –Ј–∞–Ї—А—Г—В–Є–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —А–∞—Б–Ї—Г–ї–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г
—Б—Л–љ–Ї—Г. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л —З—Г—В—М –љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–∞ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ - —З–µ–Љ-—В–Њ –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є–ї–∞, –Є
–Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З, –љ–∞–њ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–Њ —З–µ—А—В–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—И–µ–ї –Ї–ї–∞—Б—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞
–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ. –Я—А–Њ—Б–њ–∞–ї —В–∞–Љ –і–Њ —Г—В—А–∞ - —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ —А–µ–і–Ї–Њ
—Е–Њ–і–Є–ї–Є. –°—Л–≥—А–∞–ї–Є —Б–≤–∞–і—М–±—Г, –Ј–∞–ґ–Є–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞, –Є —Е–Њ—В—П –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З,
–њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Л–є –±—А–Њ–љ—М—О, –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В –љ–µ —Г—И–µ–ї, –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г
—А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Љ–µ—А—В–≤–∞—П –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Ю–ї—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—И–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Ї–Є
–Њ—В –±—А–∞—В—М–µ–≤ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ - –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–њ–Є–ї –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З. –Ю—В—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ,
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ–±–ї—Л—Б–µ–ї, –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–Љ—М –ї–µ—В
–Њ—В –±—А–∞–≤–Њ–є –Ї—Г—А—З–∞–≤–Њ–є —И–µ–≤–µ–ї—О—А—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–µ –њ—Г—Б—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є–Ј
–љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞
—А–∞–±–Њ—В—Л? –Ю–љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Г –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –±—Л–ї –ї–Є—З–љ—Л–Љ
—И–Њ—Д–µ—А–Њ–Љ —З–µ—А–љ–Њ–є —Н–Љ–Ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П. –Ш–Ј –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ –±—А–∞–ї, –љ–Њ –Ј–∞
–±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –Љ–Њ–≥ –Є –Ј–∞–Љ–Њ–ї–≤–Є—В—М —Б–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–Њ.
–°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А. –Ю–љ–∞ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї
—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З, –Є —Б–∞–Љ–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞, –і–Њ —З–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–∞–≤—З–Є–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М
—Г –љ–µ–µ —Б—Л–љ. –Т—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—З—В—Л, —Г–≤–Є–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л
–њ—В–Є—З—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ—В–∞, –Њ–љ–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–ї–∞ —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ, –∞ –Љ—Г–ґ, –Њ—Й—Г—В–Є–≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ
–Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–Є —Б–≤–Њ—П. –Ґ–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М –і–∞–ї—М—И–µ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –Ј–∞
–Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М. –Х—Й–µ –њ–Њ–і—А–∞—Б—В–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є, —В–Є—Е–Є–є, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї, –∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А
—Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї –Ї—Г—А–Њ–ї–µ—Б–Є—В—М –њ–Њ —Б–≤–µ—В—Г, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –Њ–і–љ–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Т—Б–µ –µ–µ
–љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Г—Б–њ–µ—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –≤ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –Є –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ
–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞—П–ї–Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –Ю–љ–∞ —А—Г–≥–∞–ї–∞ –°–∞—И–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є
—Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –њ–Є–ї–Є–ї–∞ –Ј–∞ –љ–µ–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–Љ, –±–Є–ї–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ, –љ–Њ —Б–∞–Љ–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–∞
–≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥—А—Л–Ј—В—М, –µ—Б–ї–Є —В–Њ—В —Е–Њ—В—М –љ–∞–Љ–µ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–µ–Ї–љ–µ—В —Б—Л–љ–∞. –І—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М
–±—Л–ї–Њ - –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Є—В—П—В–Є? –Э–µ—В, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –±—Л–ї–Њ
–љ–µ—З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ, –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–µ–µ—Б—П, –њ–Њ—З—В–Є –Ј–≤–µ—А–Є–љ–∞—П
–≤–µ—А–∞ –≤ —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –µ–µ —А–Њ–і–∞ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Ш–љ–∞—З–µ
–Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –≤—Л–ї–∞ –Ї–∞–Ї –±–Є—В–∞—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –≤ –њ–∞–ї–∞—В–µ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ
–і–Њ–Љ–∞, –і–∞ —В–∞–Ї –і–Є–Ї–Њ, —З—В–Њ —Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б —Г–Љ–∞ –≤–Є–і–∞–≤—И–Є–µ –≤–Є–і—Л –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–µ—Б—В—А—Л.
–Ю—Е, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –µ–µ –Є–Ј–Љ—Г—З–Є–ї. –Ш –і–ї—П —З–µ–≥–Њ —Н—В–∞ —Г–±–Њ–≥–∞—П, –±–µ–і–љ–∞—П, –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–∞—П
–ґ–Є–Ј–љ—М —Б –њ–Њ–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ—Г–ґ–і–Њ–є, —Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ–Є, –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞
–њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –±—Г–і–љ—П–Љ–Є, —Б —Н—В–Є–Љ –≤–µ—З–љ–Њ –њ—М—П–љ—Л–Љ —А—Л–ї–Њ–Љ –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З–µ–Љ. –Ш –µ—Й–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ,
–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–µ - –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –і—А—Г–≥–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ, –≤—Б–µ –і–Њ –Њ–і–љ–Њ–є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –µ–µ
—Б–Њ—Б–µ–і–Ї–Є, –±–∞—А—Л–љ–Є –Х–ї–µ–љ—Л –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ—Л, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ–є
—З–µ—А–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М—О –µ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—Б–њ–µ—Е—Г. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї, –Є –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ. –Ш–љ–∞—З–µ
–њ—А–Њ–њ–∞–і–Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–Њ–Љ, –Є–љ–∞—З–µ –ї—Г—З—И–µ —Г–і–∞–≤–Є—В—М—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –±—Л—В—М
–Ї–∞–Ї –≤—Б–µ.
–Э–Њ –Є —В–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—Л–љ –µ–µ –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ. –Ю–љ–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї
—В—П–љ—Г—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ, –Є –≤–Є–і–µ–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ –Є—Е –≤—Л—И–µ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–µ,
–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–µ–µ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ —В–Њ–њ–Ї–Є–µ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є
—Г–Љ—З–∞–ї—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л. –Ґ–∞–Љ –µ–≥–Њ –Њ—Ж–µ–љ—П—В, –≤–Њ–Ј–≤—Л—Б—П—В, –≤–Њ—Б—Б–ї–∞–≤—П—В –њ–Њ
–і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г. –Э–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ, –Ј–∞—В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–Њ, –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є
–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —З–µ—А–љ—Л–µ –і–љ–Є, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ґ–і–∞–ї–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–∞.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–µ–є—З–∞—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Њ, –Њ–љ–∞ –≤—А—П–і –ї–Є –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Њ –љ–µ–Љ.
–°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –Ј–∞—Б—В—Л–≤—И–µ–є –≤ –ї–µ—В–љ–µ–Љ —Б–∞–і—Г —Д–Є–≥—Г—А—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П
—Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ —В—А–Њ–≥–∞–ї–∞ –µ–µ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Њ, –њ–Њ–Ј–≤–∞—В—М –њ–Њ–µ—Б—В—М —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, –Њ–љ–∞ —З—Г—В—М
–≤–Ј–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї–∞ —Г–Ј–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –≤ –Ї—Г–ї–∞—З–Ї–µ.
–Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Н—В–Њ—В —В–∞–є–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Њ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ
–≥–ї–∞–Ј–∞, –Є –±—Л–ї —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є, –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Ј–∞—Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Њ–є, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –µ–µ —Б
–Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Э–µ –Ј—А—П –ґ–µ –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Б–Њ—А—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ
—Б–∞–Љ—Л—Е —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤, –≤—Л–Ї–∞—В—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –ґ–µ–љ—Г –Ї—А–∞—Б–љ–Њ-–±–µ–ї—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є —И–Є–њ–µ–ї: "–£,
—И–µ–ї—М–Љ–∞, –Ј–љ–∞—О, –Ј–љ–∞—О, —З–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–Є—И—М, —В—Л –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є —Е–Њ—З–µ—И—М –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ–Љ,
—А–∞–Ј–Њ–ґ–Љ–Є –Ї—Г–ї–∞—З–Є—И–Ї–Њ, –њ–Њ–Ї–∞–ґ–Є, —З–µ–≥–Њ —В–∞–Љ –Ј–∞ –Є–љ–Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Њ –≤ —А—Г–Ї–µ. –°–ї—Л—И—М, —П–і —Г –љ–µ–µ
—В–∞–Љ, –Њ–љ–∞, –Ј–Љ–µ—П, –Њ—В—А–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М, –њ–Є—П–≤–Ї–∞!"
76
–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В. –£ –С–Њ—И–Ї–Є —П–≤–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ
–љ–µ –Ј–∞–ї–∞–і–Є–ї–Њ—Б—М, –Є –Њ–љ –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–µ—В. –Я—А–Њ–њ–∞–ї–∞ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ—А–µ–ґ–љ—П—П –њ—А–Є—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–∞–љ–µ—А–∞
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–Љ–Є, —Б —В—П–≥—Г—З–Є–Љ–Є –љ–µ—Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—Г–Ј–∞–Љ–Є, —Б
–Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –ї–ґ–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ–Љ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ —Г–ґ–µ –љ–µ —В–∞–Ї —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ
–љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —Б—В–Њ–ї, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ–∞–Љ–µ–Ї–Њ–≤, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –і–≤–Њ–Є—Е, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ
–њ—Г—В–∞–µ—В—Б—П —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є, –∞ –Ј–∞ —З–∞–µ–Љ —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–∞—Е–∞—А–Ї—Г. –Р
–Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –і–∞–ґ–µ —А–∞–Ј–±–Є–ї —З–∞—И–Ї—Г. –Т–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ,
—З—В–Њ-—В–Њ –µ–≥–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В, –Є –≤–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є
–њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є —Б –Ш–Љ—П—А–µ–Ї–Њ–Љ. –Э–Њ –Ш–Љ—П—А–µ–Ї —Б–∞–Љ –љ–µ –љ–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤—Л–ґ–Є–і–∞–µ—В, –Ј–љ–∞–µ—В,
–Ї–∞–Ї –ї–µ–≥–Ї–Њ –С–Њ—И–Ї—Г –≤—Б–њ—Г–≥–љ—Г—В—М, –∞ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П,
–љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –С–Њ—И–Ї–∞ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞.
-–І—В–Њ-—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В—Б—П, –љ–Њ–≥–∞ –љ–Њ–µ—В –Є –≤ –Љ–Њ–Ј–≥—Г –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —И–µ–±—Г—А—И–µ–љ–Є–µ.
-–Ъ–∞–Ї–Њ–µ —И–µ–±—Г—А—И–µ–љ–Є–µ? - –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В—Б—П –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Ч–љ–∞–µ—И—М, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є, –ї—П–ґ–µ—И—М –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ, –љ–∞–Ї—А–Њ–µ—И—М—Б—П —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є - —П
–њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–і–µ—П–ї–Њ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –ї—О–±–ї—О –љ–∞—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М - –Ј–∞–Ї—А–Њ–µ—И—М –≥–ї–∞–Ј–∞, –Є –њ–Њ—И–ї–Њ,
–њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Њ. - –С–Њ—И–Ї–∞ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞–ї –њ–ї–µ—И—М. - –Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М –≤–Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–µ–µ—В –Є
–Њ—В—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є.
-–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ, –Њ—В—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П?
-–Э–µ—В, –љ–µ –Њ—В—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –∞ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—В–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ—В–ї–Є–њ–∞–µ—В, –Є
—Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ—П—З–Њ–Ї –њ–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–µ—В. –•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ, –≤–Њ—В —П –Є –љ–∞—В—П–≥–Є–≤–∞—О –Њ–і–µ—П–ї–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ
–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В, –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –°—В–∞—А–Є–Ї, –µ—Й–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П.
-–Э–Њ —З—В–Њ –Њ—В–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П? - –Ш–Љ—П—А–µ–Ї —В–Њ–ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤ —Б—В–∞—А–Њ–µ
–Ј–∞–±—Л—В–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ.
-–Ь—Л—Б–ї–Є –Њ—В–Ї–ї–µ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–Њ–Ј–≥–∞–Љ–Є. –ѓ —З–Є—В–∞–ї –≥–і–µ-—В–Њ, —Г —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤
–±—Л–≤–∞–µ—В —Г—Б—Л—Е–∞–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤. –Ф–∞. –Ш –≤—Б–µ –±—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ
—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞. –≠—В–Њ –µ—Й–µ –њ–Њ–ї–±–µ–і—Л, —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ...
- –С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М –љ–Њ—З–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –≠—В–Њ –µ–Љ—Г,
–≤–Є–і–љ–Њ, —Г–і–∞–µ—В—Б—П, –Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–≤–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б–ї–µ–Ј—Л. - –Я–ї–Њ—Е–Њ
–Љ–љ–µ, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Љ–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В
–љ–µ—З—В–Њ. –Ю–љ–Њ —Г –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –≤ –Љ–Њ–Ј–≥—Г, –∞ —П –µ–≥–Њ –≤–Є–ґ—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—А–Њ–і–µ
–Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞, —З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ –±—Г–і–µ—В. –Ф—Г–Љ–∞—О, –≤ —Й–µ–ї–Њ—З–Ї—Г –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—О,
–њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ—Г, –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–µ. –Р –Њ–љ–Њ-—В–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В,
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –±–µ–Ј–≥–ї–∞–Ј–Њ–µ, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –Є —Й—Г–њ–∞–µ—В. - –С–Њ—И–Ї–∞ –Њ—В –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–∞–ґ–µ –≤—Б—В–∞–ї –Є
–Є–і–µ—В –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ш–Љ—П—А–µ–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М. - –Э–Є –Ј–≤–µ—А—М, –љ–Є –Ј–Љ–µ—П, –∞
—Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О: –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Њ –Њ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П. –ѓ –µ—Й–µ
–љ–∞–і–µ—О—Б—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ј–µ—В, –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є—В, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ї—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є
–љ—Г–ґ–µ–љ, —З—В–Њ –ґ–µ, —П –Є –µ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї? –Э–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, —Г—З—Г—П–ї–Њ,
–љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П, –Є –і–∞–ґ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О - —Г–ґ–µ –≤—Б–µ –њ—А–Њ –Љ–µ–љ—П –Ј–љ–∞–µ—В, –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ
–њ—А–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б, –њ—А–Њ —В–µ–Ї—Г—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, —З—В–Њ, –Љ–Њ–ї, —П —Г–ґ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Є
–њ–Њ–і—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Г–Ї—А–∞–і–Ї–Њ–є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ... –Ш –≤–Њ—В, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М,
–µ—Й–µ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ —А—П–і–Њ–Љ, –∞ —Г–ґ–µ —Й—Г–њ–∞–µ—В, –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —В–Њ –µ—Б—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ—В, –љ–µ
–Є–Ј—Г—З–∞–µ—В, –Є–±–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –Є —В–∞–Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ. –Р –Ј–љ–∞–µ—И—М, –°—В–∞—А–Є–Ї, —З—В–Њ –µ—Б—В—М
—Б–∞–Љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ? - –С–Њ—И–Ї–∞ —Г–ґ–µ –і—Л—И–Є—В —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї—Г –≤ –ї–Є—Ж–Њ. - –°–∞–Љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±—П –≤–Њ—В —В–∞–Ї –≤–Њ—В –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г—В –Ј–∞ –і—Г—И—Г, - –±–Њ—И–Ї–Є–љ—Л —А—Г–Ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞—Б–∞—О—В—Б—П
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї–∞, - –Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ —В–µ–±—П –њ–Њ–є–Љ—Г—В. –Т–µ–і—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ґ–Є–≤–µ—В —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ,
—В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ, –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ.
–Ч–∞—З–µ–Љ –ґ–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ —В–µ–±—П —Г–ґ–µ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –≤—Б–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ? –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –Ј–љ–∞–љ–Є–µ
—Г–±–Є–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. - –С–Њ—И–Ї–∞ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б–µ–ї. - –Т–Є–і–Є—И—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є —П
–±–µ–і–љ—Л–є, –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—И–ї–∞, –∞ –Љ–µ–љ—П-—В–Њ –Є –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є–ї–∞. –Э–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ, –љ–Є —Г–і–∞—З–µ–є
–љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є–ї–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–љ—Г—А—П—О—Й–Є–Љ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–ї–Њ–є,
–Ј–∞–≤–Є—Б—В–ї–Є–≤—Л–є, –ґ–∞–і–љ—Л–є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –ї–µ–≥–Ї–Њ –±—Л—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Б—В—М —З–µ–≥–Њ
–њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М, –ї–µ–≥–Ї–Њ –±—Л—В—М –і–Њ–±—А–µ–љ—М–Ї–Є–Љ, –µ—Б–ї–Є —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М
–Є–Љ–µ–µ—В—Б—П. –ѓ –ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї —Н—В–Є—Е –і–Њ–±—А–µ–љ—М–Ї–Є—Е. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –±–∞–ї–Њ–≤–љ–Є —Б—Г–і—М–±—Л,
–Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –С–Њ–≥ —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ј–∞ —В–∞–Ї, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ,
–±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ. –†–∞–Ј–≤–µ —Н—В–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ? –Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і—П –Є–і–µ—О –±—А–Њ—Б–Є—В, –Ї–∞–Ї –±—Л
–љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є, –∞ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≤—М—О—В—Б—П, –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞—О—В—Б—П - –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ,
—В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ, –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Р —В—Л —Б—В–Њ–Є—И—М –≤ —Г–≥–ї—Г, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є,
–њ–ї–µ—И–Є–≤—Л–є, –Є –≤–µ—А–Є—И—М –ї–Є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—В–Є—В –Њ—В –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є. –Э–µ—В, –і–ї—П –≤–Є–і—Г
—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–Њ–ґ–µ —А–∞–і—Г—О—Б—М, –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞—О—Б—М, –∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –≤—Б–µ –∞–ґ –≥–Њ—А–Є—В, –і—Г—И–Є—В. –Ґ–∞–Ї
–Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Ї—А–Є–Ї–љ—Г—В—М: "–Ъ–Њ–Љ–µ–і–Є–∞–љ—В—Л! –Т—Л –≤—Б–µ –і–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–∞–љ—В—Л, –≤—Л –ґ–µ
–њ—А–Є—В–≤–Њ—А—П–µ—В–µ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ –≤–Њ—В —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Њ—В —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —З—Г–ґ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ
–∞–њ–ї–Њ–і–Є—А—Г–µ—В–µ. –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –ґ–µ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ, –љ–µ—З–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –≤—Б–µ, –∞ –љ–∞–Љ
–≥–∞–ї–µ—А–Ї–∞!" –Ъ–∞–Ї –ґ–µ —Н—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ, –°—В–∞—А–Є–Ї, –Ї–∞–Ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Т–µ–і—М —П –ґ–µ –љ–µ –і—Г—А–∞–Ї, —А–∞–Ј
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О —В–∞–Ї–Њ–µ. –Р? - –С–Њ—И–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–µ—В, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П.
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –µ–ї–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –Ї–Є–≤–Ї–Њ–Љ. - –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –Љ–љ–µ –±—Л—В—М —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞
–њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ, –ї—Г—З—И–µ —Г–ґ –±—Л—В—М –і—Г—А–∞–Ї–Њ–Љ, –ї—Г—З—И–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В—Л –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–µ
–Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, —В—А—Г–і–Є—Б—М –Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ–µ—И—М. –І–µ–њ—Г—Е–∞,
—В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –і–Њ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–∞. –Э–µ—В, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ,
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ч–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —П —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В, —З—В–Њ–±—Л
–Ј–љ–∞—В—М, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ—З—М? –Ф–ї—П —З–µ–≥–Њ —П —В–Њ–≥–і–∞? - –С–Њ—И–Ї–∞ –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞–µ—В –Є
–і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –і–∞–µ—В –Њ—В–≤–µ—В: - –Э–Є –і–ї—П —З–µ–≥–Њ. –Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г —П –љ–µ –љ—Г–ґ–µ–љ, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г.
–Х—Б–ї–Є –±—Л —Е–Њ—В—М –ґ–Є–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–µ–љ—П —А–Њ–і–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –Њ–љ–∞ –±—Л
–Љ–µ–љ—П –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї–∞, –∞?
-–Ф–∞, - —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–µ—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Э–Њ –љ–µ—В –µ–µ, —Г—И–ї–∞ –≤ –љ–µ–±—Л—В–Є–µ, –Ї–Њ–Љ—Г —П —В–µ–њ–µ—А—М –љ—Г–ґ–µ–љ. - –С–Њ—И–Ї–∞ —Г–њ–∞–ї –љ–∞
–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є, –≤—Б—Е–ї–Є–њ—Л–≤–∞–µ—В, –њ—А–Њ—Б–Є—В: - –Ґ—Л –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ—В—М.
-–Ґ–µ–±–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –≤—А–∞—З–∞–Љ, - —Б–Њ–≤–µ—В—Г–µ—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Ъ –≤—А–∞—З–∞–Љ! - –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞–µ—В –С–Њ—И–Ї–∞. - –Ъ —Н—В–Є–Љ —Г–±–Є–є—Ж–∞–Љ? –Ш —Н—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М
—В—Л?
-–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–∞—Б—В–Њ–є–Ї—Г –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –ї–µ—З–µ–±–љ—Г—О?
-–Я–Є–ї, –њ–Є–ї, –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В...
-–Ъ–∞–Ї –ґ–µ –±—Л—В—М?
-–°–њ–∞—Б–Є, —Б–њ–∞—Б–Є –Љ–µ–љ—П, —В—Л –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М.
-–І–µ–Љ –ґ–µ?
-–Ґ—Л –±—Г–і–µ—И—М —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П.
-–Э–µ—В, –і–∞—О —Б–ї–Њ–≤–Њ, –љ–µ –±—Г–і—Г.
-–Э–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, - –С–Њ—И–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –і—А–Њ–ґ–∞—В—М. - –Ґ—Л –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—И—М,
–њ–Њ–±—А–µ–Ј–≥—Г–µ—И—М.
-–І–µ–≥–Њ —В—Л —Е–Њ—З–µ—И—М? - –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–С–Њ—О—Б—М.
-–Э—Г...
–С–Њ—И–Ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Є—Б–њ—Л—В—Г—О—Й–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –ґ–µ–ї—В—Л–Љ
—Б–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ —В—Л–Ї–∞–µ—В —Б–µ–±—П –≤ —В–µ–Љ—П—З–Ї–Њ.
-–Я–Њ—Ж–µ–ї—Г–є –Љ–µ–љ—П –≤–Њ—В —Б—О–і–∞.
-–Ъ–∞–Ї?! - –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Э—Г –ґ–µ, –і–ї—П —В–µ–±—П –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –Љ–Є–≥, —Б–µ–Ї—Г–љ–і–∞, –∞ –Љ–љ–µ
—Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ. –ѓ –Ј–љ–∞—В—М –±—Г–і—Г, —А–∞–Ј —В—Л –Љ–µ–љ—П –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї, —В–Њ,
–Ј–љ–∞—З–Є—В, –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞, –Є –±—Г–і–µ—В –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —З–µ–Љ –ґ–Є—В—М. –Э—Г –ґ–µ,
–≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П —А–∞–Ј–Њ–Ї.
-–І—В–Њ –Ј–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—Е–Њ—В—М?
-–С—А–µ–Ј–≥—Г–µ—И—М, –±—А–µ–Ј–≥—Г–µ—И—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ—З—М. –Ґ–µ–±–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ, –∞
—В—Л –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ј–∞–Ї—А–Њ–є, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є.
-–Э–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, - –љ–µ —Б–і–∞–µ—В—Б—П –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Ю–і–Є–љ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є —А–∞–Ј–Њ–Ї, - –Ї–∞–љ—О—З–Є—В –С–Њ—И–Ї–∞, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ј–∞—П –љ–∞
–Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –µ—Й–µ –±–ї–Є–ґ–µ. - –Э–µ –Ј–∞ —Б–µ–±—П –њ—А–Њ—И—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Є –≤–Њ –Љ–љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї–∞ –±—Л
–Љ–∞—В—М. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є?
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї –≤–Є–і–Є—В –≤–Ј–і—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–ї–µ—З–Є, —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ–±–љ–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Є—В–µ–ї—М, –Є
–љ–∞–≥–Є–±–∞–µ—В—Б—П. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞, –Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ
–њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ - –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ —З–µ—А–љ–Њ–µ
–Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ, –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ–µ –Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї–µ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ. –Х–і–≤–∞ —Б–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –∞–Ї—Ж–Є—П,
–С–Њ—И–Ї–∞ –≤—Б—В–∞–µ—В –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є.
-–°–Љ–Њ–≥, —Б–Љ–Њ–≥! –Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї. –Ю, –С–Њ—И–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М, –С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–љ–∞–µ—В, —З–µ–≥–Њ
–њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ф–∞, —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤—Г–є—В–µ,
–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –µ–є-–±–Њ–≥—Г, –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї, –≤–Њ—В –µ—Й–µ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г –љ–∞–Ј–∞–і —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П,
–њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї, —В—А—Г—Б–Є–ї, –љ–µ —Б–Љ–µ–ї –і–∞–ґ–µ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Є –≤–і—А—Г–≥, –њ–Њ–і–Є –ґ —В—Л,
–±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ. –ѓ –Є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–± –±—Л–ї —В–≤–Њ–є, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М-—В–Њ...
–Ґ–µ–њ–µ—А—М-—В–Њ —З–µ–Љ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є? –•–Њ—З–µ—И—М, –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —В–≤–Њ–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і –љ–∞–Ј–Њ–≤—Г, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є,
–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–є? –•–Њ—З–µ—И—М, –∞?
-–Ч–∞—З–µ–Љ?
-–Э–µ—Г–ґ—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—И—М—Б—П? –•–Њ—А–Њ—И–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ, –±—А–Є–ї—М—П–љ—В —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П.
-–Ъ–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і? - –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –љ–µ –љ–∞ —И—Г—В–Ї—Г –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П.
-–Ю, –Ј–∞–≥–ї—П–і–µ–љ—М–µ, –Ї—Г–і–∞ —В–∞–Љ –Т–µ–љ–µ—Ж–Є–Є —Б –≥–љ–Є–ї—Л–Љ–Є –Ї–∞–љ–∞–ї–∞–Љ–Є.
-–Э–µ —Е–Њ—З—Г, - —В–≤–µ—А–і–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Р —П —Г–ґ–µ, —Г–ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї, - –С–Њ—И–Ї–∞ —А–∞–і—Г–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї. - –Ч–љ–∞–ї, —З—В–Њ
–њ–Њ—Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Є—З–∞–µ—И—М, –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—И—М—Б—П. –Я–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, –љ–µ –Ј–ї–Є—Б—М, —П –ґ–µ –љ–µ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Ј—П–ї
–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і –Є –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —В–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—А–µ–Ї. –І—В–Њ –ґ–µ —П, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О
–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ? –†–∞–Ј–≤–µ –ґ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і
–њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М, –Љ—Л-—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –≤–µ—З–љ—Л, –њ—А–Њ–є–і–µ—В –ї–µ—В —Б—В–Њ, –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б–µ
–њ–Њ–Ї–∞—В–Є—В—Б—П. –Ґ—Г—В –Є —П —Б —В–Њ–±–Њ–є –Ј–∞ –Њ–і–љ–Њ. –Э–Њ –њ–Њ—Б—Г–і–Є, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є
–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —В–Њ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ј–і–µ—Б—М
—Г–ґ–µ –љ–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Њ - –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–µ—И–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –њ—Г—Б—В—П–Ї–Њ–≤—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б.
-–Э–Њ–≤—Л–є?
-–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ–≤–µ—Е–Њ–љ—М–Ї–Є–є, –Є–Ј –±–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ–є –≥—А—П–Ј–Є, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М,
–Љ–µ—А–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–ї–Є–Љ–∞—В—Г –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є. –Э—Г, –њ—А–∞–≤–і–∞, –±—Л–ї —В–∞–Љ —А–∞–љ—М—И–µ –і—А—П–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ,
–і–∞ –Є –љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ, –∞ —В–∞–Ї, –њ—Г–љ–Ї—В–Є–Ї, –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є, –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –і–∞–ґ–µ
–љ–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М. –Р —В–µ–њ–µ—А—М —З—Г–і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і, –∞ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М.
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї –Љ–Њ—А—Й–Є—В –Ї—А–Є–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–µ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –ї–Њ–±.
-–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ —Г—Е–љ—Г–ї–Є, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –і–∞–ґ–µ
–Ї—А—Г–ґ–Є—В—Б—П. –Р –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є? –Ґ—Г—В –ґ–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б—А—Г–± —Б—А—Г–±–Є—В—М,
—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–Њ–≤–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –Т—Б–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є, –і–∞–ґ–µ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, - –С–Њ—И–Ї–∞
–њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —И–µ–њ–Њ—В, - –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М.
–І–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ, –љ–Њ –Ј–љ–∞–µ—И—М, –±–Њ–≥–∞—В–∞ –љ–∞—И–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П —В–∞–ї–∞–љ—В–∞–Љ–Є.
–Ф–∞-—Б, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е, –њ–ї–Њ—В—М –Њ—В –њ–ї–Њ—В–Є, —В—А—Г–і–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–∞, —А–µ–і—З–∞–є—И–µ–≥–Њ
—В–∞–ї–∞–љ—В–∞ –ї—О–і–Є. –Э–µ—В, –љ–µ –і—Г–Љ–∞–є, –≤—Б–µ –≤ –њ–Њ—З–µ—В–µ, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –∞
–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ.
-–Ю–њ—П—В—М?
-–І—В–Њ —В—Л, - –С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–∞–Љ–∞—Е–∞–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, - —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ —А–∞–Ј –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞,
–±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ. –Э—Г, –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ–≤–Љ–Њ–≥–Њ—В—Г
—Б—В–∞–ї–Њ, –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л. –Ы–µ—В–Є, –Љ–Њ–ї, —Б–Њ–Ї–Њ–ї —П—Б–љ—Л–є –љ–∞ –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≥—Г–ї—П–є –≤ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ, –Є—Й–Є, —З–µ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ. –Я—А–∞–≤–і–∞,
–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї—О—В, –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –љ–Њ—А–Њ–≤—П—В, –і–∞ –µ—Й–µ –Є —Б –њ–Њ–і–Ї–Њ–≤—Л—А–Ї–∞–Љ–Є. –Ґ—Г—В —Г–ґ,
–Є–Ј–≤–Є–љ–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М, –Љ—П–≥–Ї–Њ, —В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Р —З—В–Њ, —А–∞–Ј —В—Л
—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В, —А–∞–Ј –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ —В–µ–±—П –≤—Б–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є–Ј –≥—А—Г–і–Є, —В–∞–Ї
–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–є—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї—П–Љ–Є, —З–µ–≥–Њ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є –Ї –љ–∞–Љ —Б—Г–µ—И—М—Б—П. –Т–Њ—В
—В–µ–±–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ—В —В–µ–±–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г–є –љ–∞–і —В–∞–є–љ–∞–Љ–Є
–±—Л—В–Є—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ. –£—З–µ—В –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М - —Н—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —И—В—Г–Ї–∞... -
–С–Њ—И–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–Њ —Е–ї–Њ–њ–∞–µ—В —Б–µ–±—П –њ–Њ –ї—О—Г. - –Ф–∞ —З—В–Њ —П —В–µ–±–µ
—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О, —В—Л –ґ —Б–∞–Љ –Ј–љ–∞–µ—И—М.
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –С–Њ—И–Ї–∞ –Њ–њ—П—В—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г
—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О, –Є –≤ –љ–µ–Љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–є —И–ї–µ–є—Д
–Њ–њ—А–Њ–Љ–µ—В—З–Є–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤.
77
–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –±—Г–і—В–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –Ъ–∞—А–±—О–Ј—М–µ, –≥–µ–љ–Є–є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є
–∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л, –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ
–ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В—Л –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –Є –ї–Є—З–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є
—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї–∞. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ
—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б, –Є –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Є–љ—П–ї –≤ –љ–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ, –љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П
–љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї. –Э–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Є —Н—В–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є
—В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –±—Л–ї –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ—Л–є. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М, –љ–µ –Ј–љ–∞—П —З–µ—А—В–µ–ґ–µ–є –Є —Б—Е–µ–Љ,
–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ: –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В - —Н—В–Њ –љ–µ—З—В–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ. –Я—А–µ–і –љ–Є–Љ
–Љ–µ—А–Ї–љ—Г—В –ї—Г—З—И–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Я–∞—А–Є–ґ –Ї–∞–Ї
–Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М? –°–Ї—Г—З–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М —Б –Њ–і–љ–Њ–є-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О,
–љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ—А—Л—Й –љ–∞ —В–µ–ї–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є, —З–µ–Љ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П, –∞—В–Њ–ї–ї –ї—О–±–≤–Є –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ш–ї–Є –§–ї–Њ—А–µ–љ—Ж–Є—П, –≥–Њ—А–Њ–і –Ы–µ–Њ–љ–∞—А–і–Њ –Є
–Ь–Є–Ї–µ–ї—М–∞–љ–і–ґ–µ–ї–Њ. –Х—Б–ї–Є –Њ—В—А–µ—И–Є—В—М—Б—П –Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –љ–∞—Б–ї–Њ–µ–љ–Є–є, —В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ
–Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –Љ—Г—В–љ–∞—П —А–µ—З—Г—И–Ї–∞ –Р—А–љ–∞ —Б–Њ —Б–љ—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —Б—В–∞—П–Љ–Є –Ї—А—Л—Б, —Б
–њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ –±–µ–Ј—А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ–Љ, –љ—Г, —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л -
–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –£–ґ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї–µ, –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ
–љ–µ –љ–∞ —З–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј—Г –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –±–µ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —В—А–µ–±—Г—О—В—Б—П
—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Е–Є—Й—А–µ–љ–Є—П, –≤—Б—П–Ї–Є–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –Є–Ј–ї–Є—И–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ
–≠–є—Д–µ–ї–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–Є, –°–∞–љ—В–∞-–Ь–∞—А–Є—П –і–µ–ї—М –§—М–Њ—А–µ –Є–ї–Є –≠–Љ–њ–∞–є–µ—А –°—В—Н–є—В—Б –С–Є–ї–і–Є–љ–≥.
–Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ъ–Є–µ–≤. –Ч–і–µ—И–љ–Є–є —А–µ–ї—М–µ—Д –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є, –љ–Њ
–љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –ї—О–±–Њ–Љ—Г, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–Љ—Г
—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ—Г. –Ф–∞, –Ј–і–µ—Б—М —В–Њ–ґ–µ –µ—Б—В—М —А–µ–Ї–∞, –µ—Б—В—М –Є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–µ
–ї–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ, –µ—Б—В—М –Є –Ї—А—Г—В—Л–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Л. –Э–Њ —А–µ–Ї–∞ - –Ї–∞–Ї–∞—П —А–µ–Ї–∞! –Э–µ —А–µ–Ї–∞, –∞
–Љ–Њ–≥—Г—З–∞—П –≤–Њ–і–љ–∞—П –∞—А—В–µ—А–Є—П, –≤–Ј–і—Г–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—А–µ—О—Й–µ–Љ —В–µ–ї–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –њ–Њ–і
–±–∞–Ј–∞–ї—М—В–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–Љ –і–Є–Ї–Њ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–∞. –Р —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞
–њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ–µ, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–µ –љ–∞–і
–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—Г–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е–≤–∞—В–∞ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Э–Њ
–Є —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ—Л–є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Ф–Њ —З–µ–≥–Њ —Г—О—В–љ–Њ–µ, —В–µ–њ–ї–Њ–µ,
–ґ–Є–ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ—В –Ъ–Є–µ–≤. –Ъ—В–Њ –≥—Г–ї—П–ї –Њ—В –°–Њ—Д–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞, - –њ–Њ —В–µ–љ–Є—Б—В—Л–Љ
–∞–ї–ї–µ—П–Љ, –њ–Њ –Ї—А—Г—В—Л–Љ —Г–ї–Њ—З–Ї–∞–Љ, –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–≤–µ—А—Е, –Ї
–Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж—Г, –Љ–Є–Љ–Њ –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –Ї –Ы–∞–≤—А–µ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –љ–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ
—Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А—Г—З–µ, –≤–≤–µ—А—Е, –≤–љ–Є–Ј, –Љ–Є–Љ–Њ –Р—Б–Ї–Њ–ї—М–і–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –Є –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є
–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Ї–Є, - —В–Њ—В –Ј–љ–∞–µ—В. –Ш –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї, –Ї—Г–і–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ
—Б—В–µ–Ї–∞—О—В—Б—П —Б –Њ–±–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞—В—Л—Е —Б–Ї–ї–Њ–љ–Њ–≤ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ —Г–ї–Њ—З–Ї–Є –Є –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–Є, –≥–і–µ
–Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—Л—Б—П—З–љ–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ —Г—В—О–ґ–Є—В –і—А–µ–≤–љ–µ–µ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—Й–µ–ї—М–µ,
–њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—П—Б—М –Є –≤—Л–љ—Л—А–Є–≤–∞—П –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –¶—Г–Љ–Є–≤, –њ—Н—А—Г–Ї–∞—А—Н–љ—М,
–њ—А—Л–Ї–∞—А–њ–∞—В—М—Б–Ї—Л—Е —В—А–Њ—П–љ–і, –Љ—Л—Б–ї—Л–≤—Ж–Є–≤ —Б –Њ–і—П–≥–Њ–Љ, —Е–ї–Є–±–Њ–Љ, –Љ—К—П—Б–Њ–Љ, –ї–µ—Б–Ї–Њ—О –Є
–і—А—Г–≥–Њ–є –±—Л—В–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ–ї–Њ—З—М—О.
–Х—Б—В—М –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л. –Х—Б–ї–Є –≤—Л
–Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–Є–љ –Є–ї–Є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Є –µ—Б–ї–Є –≤—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –і–∞–≤–љ–Њ
–њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞, –і—А—Г–≥–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ, - –Є–і–Є—В–µ –љ–∞ –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї.
–Э–Њ –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —Г –≤–∞—Б –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤–љ–Њ–≤—М, –Њ—З—Г—В–Є–≤—И–Є—Б—М
–љ–∞ –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї–µ –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М —Г –Я–∞—Б—Б–∞–ґ–∞, —Г –У—А–Њ—В–∞ –Є–ї–Є –љ–∞ –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Ї–µ, –≤—Л
–љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В–µ—Б—М —Б –і–∞–≤–љ–Є—И–љ–Є–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–Љ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї –Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї–∞ –Є
–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М —Н—В–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ
–≤—В—П–≥–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ –њ–ї–µ—З–Є, —Б—Г—В—Г–ї–Є–ї—Б—П, –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–µ –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–ї —Б–µ–±—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є,
—Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Б—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ—Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞. –Я—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є
–Њ–љ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —Й—Г–њ–∞–ї —В–Њ–ї—Б—В—Л–є –њ–∞–Ї–µ—В, –Њ—В—В–Њ–њ—Л—А–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –±—А—О–Ї, -
–њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є—И—Г—О –Ї–∞—А—В—Г-—Б—Е–µ–Љ—Г –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ъ–∞—А—В—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤,
–Є –≤—З–µ—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, —А–Є—Б–Ї—Г—П —З–µ—Б—В—М—О –Љ—Г–љ–і–Є—А–∞, –Є–Ј—К—П–ї –µ–µ –Є–Ј –љ–µ–і—А —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ
—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ, –≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –Њ–љ –њ–µ—А–µ–і–∞—Б—В –µ–µ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Г –і–ї—П
–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П —Б —З–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ. –Ь–Њ–≥ –ї–Є –Њ–љ –µ—Й–µ –≥–Њ–і –љ–∞–Ј–∞–і
–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —А–Њ–ї–Є? –Я—А–Њ—Б—В–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В. –Э–µ—В, –Є
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ. –Р –≤–Њ—В –љ–∞ —В–µ–±–µ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є, –Є –Њ–љ –љ–µ—Б–µ—В. –Ш –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–і
–љ–∞–ґ–Є–Љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –≤ —Б–ї–µ–њ–Њ–є –≤–µ—А–µ, –∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ
—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —Б –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ
–љ–∞–і—А—Л–≤–Њ–Љ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї –Є –љ–∞–ґ–Є–Љ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є —Б —З—М–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л? –Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ,
–љ–Њ —Д–∞–Ї—В - —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Ф–∞ —Г–ґ, –њ–Њ–љ—П—В—М
–У–Њ—А—Л–љ—Л—З–∞ –љ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В, –Є –љ–µ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –і–ї—П
–ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї–Њ-–Љ–∞–ї—М—Б–Ї–Є –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ –Њ–љ–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –Њ–љ –µ–µ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї.
–Т–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є
—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М, —З–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–∞—П, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є
–≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ—Б–Њ–±–∞. –Т–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Њ—Б—М –µ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є.
-–Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –Њ–љ —Б—В–Њ–Є—В —Г –Њ–Ї–љ–∞.
–Ч–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞? –•–Њ—В–µ–ї–∞ —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П? –Т—А—П–і –ї–Є. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ
–±—Л–ї–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і
–±—Л–≤—И–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ? –Э–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –і–∞ –Є –Ї —З–µ–Љ—Г? –Э–µ—В, –Ј–і–µ—Б—М
–±—Л–ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ—А–Є–µ–Љ. –Ф–∞, –і–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–µ–Љ, –∞
–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –Љ–µ—В–Њ–і.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Њ—В –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ —В–Њ–Љ
—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ. –Я–ї–Њ—В–љ–∞—П, —В—П–≥—Г—З–∞—П –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—В–µ–Ї–∞–ї–∞
–µ–≥–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, —В—Г—В –ґ–µ —Б–Љ—Л–Ї–∞–ї–∞—Б—М –Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–∞ –≤ —В–µ–љ–Є—Б—В—Л—Е –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞—Е
–Ї–∞—И—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–є –∞–ї–ї–µ–Є. –С—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Я—П—В–љ–∞ –Є—О–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞
—Б—В–∞–є–Ї–∞–Љ–Є –Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ–Є –≥–∞–Ј–Њ–љ–∞–Љ–Є —Г —Д–Є–≥—Г—А–љ—Л—Е –Ї—А–∞—И–µ–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–Љ–µ–µ–Ї,
–љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. –†–∞–љ—М—И–µ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї–Њ. –Ш
–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞ –њ–Њ
–Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–≤—Л–Ї—Б—П, –њ—А–Є—В–µ—А–њ–µ–ї—Б—П, –Є —Г–ґ–µ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –љ–∞–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г,
–Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –Ј–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≥—А—Г–±–Њ–µ, —Б—Г–µ—В–ї–Є–≤–Њ–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ, –Ї –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Ї–µ, –Ї –Њ—Б—В—А–Њ–є –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –≥—Г–±–µ
–њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ "–°—В–Њ—П–љ–Ї–∞ —В–∞–Ї—Б–Є". –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –Ј–∞–љ—П–ї –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞
—З–∞—Б—Л, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –±—Г–ї—М–≤–∞—А—Г –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–Њ–њ–Њ–ї–µ–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ
—А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ—Г –≥—А–∞–љ–Є—В—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–µ–µ, –љ–∞ —В—Г
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї–∞, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –У–Њ—А—Л–љ—Л—З–∞, –Є –і–ї—П
–Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї –≥–∞–Ј–µ—В—Г.
–° –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –Њ—В—А–µ—В—Г—И–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ
–≤—Л—Б—И–µ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞–ї —Б–ї–µ–і—Л –љ–µ–Є–Ј–ї–µ—З–Є–Љ–Њ–є
–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –°–ї—Г—Е–Є –Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ–і–Њ–Љ–Њ–≥–∞–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–µ–ї—М
–Љ—Г—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Ї—Г—А–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ
–≤–њ—А—П–Љ—Г—О, –∞ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А—Л, —Н–Ј–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–∞—А–≥–Њ–љ–µ. –Э–µ—В,
–љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ. –Э–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –ї—О–±–Є—В –ґ–Є—В—М –і–Њ–ї–≥–Њ. –Т—Б–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е
–≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є. –Ґ–µ –ґ–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є, —В–µ –ґ–µ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А—Г–±—А–Є–Ї–Є.
–У–∞–Ј–µ—В–∞ —Б—Г—Е–Њ —И—Г—А—И–∞–ї–∞ –Њ –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –≤–∞—Е—В–∞—Е –Љ–Є—А–∞, –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —В–µ–њ–ї—Л—Е
–њ—А–Є–µ–Љ–∞—Е, –Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ–є–Ї–∞—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ —З–µ—А–љ–Њ–є –Є —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є
–Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є–Є, –Њ –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—П—Е –Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є
–∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Є. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ —З–∞—Б—Л. –Я—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ.
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –Њ–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–ї. –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –µ—Й–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ґ–і–∞–ї —Н—В–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є, —З—В–Њ
–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Њ—Б—М–±—Г –°–Њ–љ–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ—В –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞
—В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г. –Ґ–Њ—В —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Њ—В–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї—Б—П, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М —В–Њ –љ–∞
–Ј–∞–±—Л–≤—З–Є–≤–Њ—Б—В—М, —В–Њ –љ–∞ –≤—А–µ–і–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –і–ї—П –Є—Е–љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ
–і–µ–ї–∞ –Є –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –∞ —В–Њ
–њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–≥–ї–Њ –≤—А–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ, –Љ–Њ–ї, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —В–µ—В—А–∞–і–Њ–Ї, –Є
–Ј–љ–∞—В—М –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Є —Б–ї—Л—Е–Њ–Љ –љ–µ —Б–ї—Л—Е–Є–≤–∞–ї. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —В–∞–Ї
–њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є–ї –Т–∞—Б–µ, —З—В–Њ —В–Њ—В –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г.
–Я—А–Њ—И–ї–Њ –µ—Й–µ –њ—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В. –Ю—З–µ—А–µ–і—М –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞
—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М, –∞ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –≤—Б–µ –љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –±—Л–ї–Њ
–≤—Л–±—А–∞–љ–Њ –Є–Ј —А–∞—Б—З–µ—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Г—О —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ј—А—П.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Ј–∞–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, –Є –≤—Б–µ –љ–∞—Б—З–µ—В —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Я—Г–≥–∞–ї
–љ–µ–Ї–Њ–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞
–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –≥–Њ–і—Л, —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї —Б –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤ –љ–µ–≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—Е–µ–Љ—Л,
–њ–Њ–і—К–µ–Ј–і—Л, —Е–Њ–і—Л, –Ї—А—Г—В–Є–ї –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ —А–ґ–∞–≤—Л–Љ –∞–Љ–±–∞—А–љ—Л–Љ –Ї–ї—О—З–Њ–Љ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—П —В–Њ –Є
–і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Є—О–љ—М –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є—О–ї—М, –і—Г—Е–Њ—В–∞, –њ–µ–Ї–ї–Њ, –Є —З—В–Њ, –Љ–Њ–ї,
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ, –∞ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–Њ —В—А—П—Б –≥—Г—Б–Є–љ–Њ–є —И–µ–µ–є –Є –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞.
–Ґ–Њ—В –ґ–µ –Љ—А–∞—З–љ–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –≥–ї—П–і–µ–ї –≤ –њ–Њ–ї –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤—Б–њ—Л–ї–Є–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞
–Т–∞—Б–Є–ї–Є–є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї –Њ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—В–∞—А—В–∞, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤
–≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і—Г—Е–µ, —Б –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–µ—Б–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –≤ —Г–і–Њ–±–љ–Њ
—Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–Њ–≤ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–і–∞–ї –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –±—Л–≤—И–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Е–Њ—В–µ–ї –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ
—А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М —Б—Г—В—М —П–≤–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г
–Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –њ–ї–∞–љ–∞–Љ. –Ф–∞–ґ–µ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В –Њ–љ, –Љ–∞—Б—В–µ—А –і—Л–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж,
—Г—Б–Љ–µ—Е–љ–µ—В—Б—П –Є —А–∞–Ј–≤–µ–µ—В —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—А–∞–Ї. –Ц–і–∞–ї, –≤–Њ—В-–≤–Њ—В —Е–Њ–Ј—П–Є–љ
–≤–Њ—Б–њ—А—П–љ–µ—В, –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Г –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є, –Є –љ–∞—Б—В–∞–љ–µ—В –њ–Њ–ї–љ–∞—П
–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –Љ–Є—А–∞. –Э–Њ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П,
–і–∞–ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П —Б –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –±—А–µ–і–Њ–Љ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ
—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г—З–∞—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤—Б–µ
–Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, —З–µ–Љ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П "–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –±–∞–±–∞", –Ї–∞–Ї –і–ї—П
–Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤. –Р —В–∞–Ї - –≤—А–Њ–і–µ –≤—Б–µ
–њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї. –Ш –і–∞–ґ–µ –Є–і–Є–Њ—В—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—А—В —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Њ–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ
–Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞. –Э–Њ –Є —В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–∞–Љ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –Ї–ї—П–ї—Б—П, –±—Г–і—В–Њ
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В.
–£–ґ–µ —Г—Е–Њ–і—П, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–і–∞–ї —А—Г–Ї—Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г, –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –µ–Љ—Г –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є
–љ–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Љ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –±—Л–ї –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ, –Є–љ–∞—З–µ –Ї—Г–і–∞
–Є—Б—З–µ–Ј –≤–µ—З–љ–Њ —Е–Є—В—А–Њ–≤–∞—В—Л–є, —И–∞–ї–Њ–њ—Г—В–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –≤–µ—Й–Є. –°–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
-–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, —В—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ?
-–Р —В—Л? - —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Ї—А–Є–≤–Њ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П.
–Э–∞ —В–Њ–Љ –Є —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М.
"–Р —П - —З—В–Њ —П?", - –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї —В–Є—Е–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞
—З–∞—Б—Л. –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В, —Н—В–Њ —П—Б–љ–Њ. –Ф–∞–ї—М—И–µ —Б—В–Њ—П—В—М –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –Є –≥–ї—Г–њ–Њ.
–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–њ—П—В—М —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Њ—Б—М? –Ф–∞ –љ–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї
–≥–∞–Ј–µ—В—Г –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–Љ—Г —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г-–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Г. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –Ј–і–µ—Б—М
–Њ—З–µ—А–µ–і–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –µ–і–≤–∞ –Њ–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–Њ–Љ—Г
–њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–µ–њ–Є–њ–µ–і—Г, –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤—Л–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ—В–µ–≤—И–Є–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ —Б —В–∞–Ї–Њ–є
–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є —Г –љ–µ–≥–Њ, –≥–∞–Ј–µ—В–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤–Ј—П–ї—Б—П –Ј–∞ –≥–Њ—А—П—З—Г—О
–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А—Г—З–Ї—Г, –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Б—П–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –Є, —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М,
–љ—Л—А–љ—Г–ї –≤–љ—Г—В—А—М. –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–Њ–Љ–µ—А –Љ–Њ–ї—З–∞–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –≤
—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ю—В –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А–Љ–Њ—В–∞–љ–Є—П –ї–µ–≥—З–µ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ, –Є
–Њ–љ –љ–∞–±—А–∞–ї –љ–Њ–Љ–µ—А –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –Њ—В –ґ–∞—А—Л
–њ–µ—А–µ–њ—Г—В–∞–ї —Ж–Є—Д—А—Л. –Ю—В–≤–µ—В–Є–ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, –Є –Њ–љ —З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї
—В—А—Г–±–Ї—Г, –љ–Њ –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї:
-–°–Њ—Д—М—П –Ш–ї—М–Є–љ–Є—З–љ–∞?
-–Ю –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, - —Б —И—Г–Љ–Њ–Љ –≤—Л–і–Њ—Е–љ—Г–ї–Є –љ–∞ —В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ. - –Ъ–∞–Ї–∞—П –µ—Й–µ
–Ш–ї—М–Є–љ–Є—З–љ–∞? –°—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є –і–µ–љ—М. –Т–∞–Љ –Ї–Њ–≥–Њ?
-–Ь–љ–µ –У–Њ—А—Л–љ—Л—З–∞.
–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—И–ї–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є.
-–Х–≥–Њ –љ–µ—В.
-–Р –Ї—В–Њ —Г —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞? - –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ.
-–Ъ—В–Њ, –Ї—В–Њ. –Ь–∞—А—В–∞.
-–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞? - –Њ—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –љ–µ —Б–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П.
-–Х–≥–Њ, - —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–Њ—А–µ—З—М—О –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –Ь–∞—А—В–∞.
-–Р –≥–і–µ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤? - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Ј–∞–љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї –Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П,
—Е–Є—Е–Є–Ї–љ—Г–ї.
-–Т—Л —З—В–Њ, —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є... - –Ь–∞—А—В–∞ –Ј–∞–њ–љ—Г–ї–∞—Б—М, - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ? –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, —З—В–Њ
–ї–Є?
-–Ф–∞.
-–Ш –≤—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –≥–і–µ –Њ–љ? - –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М. - –Ю–љ –Є—Б—З–µ–Ј,
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Ї—Г–і–∞-—В–Њ.
-–Ъ–∞–Ї - –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П?
-–Э–µ –Ј–љ–∞—О.
-–Ш –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Є—Б—З–µ–Ј?
-–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –≤ –≤–∞–љ–љ–Њ–є.
–Т —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Г—А–µ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ –і—Г—И–љ–Њ. –Э–µ–Ј–∞–і–∞—З–ї–Є–≤—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ
–±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–∞–ї—Б—П –Є –≤—Л–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞—А—Г–ґ—Г. –Я–Њ—В –Ї–∞—В–Є–ї—Б—П –≥—А–∞–і–Њ–Љ –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї
–љ–µ—А–Њ–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—Й–Є–љ, –Ї–Є—Б–ї–Њ —Й–Є–њ–∞–ї –≥–ї–∞–Ј–∞, —Б–Њ–ї–Є–ї –≤–Њ —А—В—Г. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ
–њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –≤—Л—В–Є—А–∞—В—М —Б–µ–±—П –≥–∞–Ј–µ—В–Њ–є, –Њ—В—А—Л–≤–∞—П –Ї—Г—Б–Ї–Є –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤
—А—Г–Ї–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б—Г—Е–Њ–є –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ—А–Њ—З–µ–ї: "–Ч–∞ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П
–Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ –і–µ–ї–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤ –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –У–µ—А–Њ—П
—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞—О—В—Б—П –°.–Я.–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Є –Ш.–Ш.–Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ
(–њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ)".
78
–Ъ–Њ–љ–µ—Ж –Є—О–љ—П —Б–Ї–Њ–Љ–Ї–∞–ї—Б—П. –°—В–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ
–њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ, –Њ—И–Є–±–Ї–∞–Љ, —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ,
–±–µ–Ј–Њ—В—З–µ—В–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ: –Є—О–ї—М –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–µ–љ. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є, –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є, –і—Г—И–љ—Л–є,
–Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –ґ–і–∞–ї. –° –Љ–Є–љ—Г—В—Л –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ—А–Є–і–µ—В –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є
–љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –≤—Б–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є —А–µ—И–∞—В—М—Б—П. –Ь–Њ–≥ –ї–Є –Њ–љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ
—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—М? –Т–µ–і—М –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤ —Б–µ–±–µ. –Т–Њ—В —Г–ґ
—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—П—Б—М –Є —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М –Њ—В –Њ–Ї–љ–∞,
–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ј–∞—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Е–Є—Й–љ–Є–Ї—Г, –љ–∞—И–µ–њ—В—Л–≤–∞—П –њ—А–Њ —Б–µ–±—П –Њ–і–љ—Г –Є —В—Г –ґ–µ
–њ—А–Є–ї–Є–њ—И—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г: "–Х—Б–ї–Є –µ—Б—В—М –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –С–Њ–≥, —В–Њ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –µ–≥–Њ
–љ–∞—Г—З–љ–Њ". –°–∞–Љ –ґ–µ –Є –њ–Њ–і—Б–Љ–µ–Є–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є. –Ф–Њ–ї–ґ–љ—Л, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л. –Ъ–Њ–Љ—Г –і–Њ–ї–ґ–љ—Л?
–°–µ–±–µ? –Ф–∞–ї–µ–µ –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —А—П–і –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–∞, –Є —В–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є
–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Ж–µ–њ—П–Љ–Є –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л, –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Є —З–∞—Б—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–і—А—Г–≥ –љ–Є
—Б —В–Њ–≥–Њ –љ–Є —Б —Б–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —В–µ–Љ—Г, –Љ—Л—З–∞–ї –њ–Њ—И–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Љ–Њ—В–Є–≤—З–Є–Ї,
–љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Є—А–∞—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –љ–Њ—В—Л. –Э–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ
–±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ–Ј–і—Г–Љ–љ–Њ –Є –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ
–љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ –і–ї—П —В–µ–Ї—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, —З—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М
–Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞. –І—В–Њ —В–∞–Ї –Љ—Г—З–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ? –Т–µ–і—М –±—Л–ї–∞
–µ—Й–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П, –Ј–∞–≤–µ—В–љ–∞—П, —В–∞, —З—В–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞
–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ—Г—О –љ–∞—В—Г—А—Г. –Ґ–∞–Ї –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж, –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ
–њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –µ—Й–µ –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤
—Б—В–µ–њ–Є, –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ —А–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—А–µ–і–µ–ї–Њ. –Э–µ—В
–±–Њ–ї—М—И–µ –Ш–ї—М–Є –Ш–ї—М–Є—З–∞, —Г—И–ї–∞ –°–Њ–љ—П, –њ—А–Њ–њ–∞–ї –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤. –•–Њ—В—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г
–Њ–љ –і–∞–ґ–µ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Т–∞—Б–µ–љ—М–Ї–∞ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –љ–∞–і–Њ–µ–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤—Л–Ї—А—Г—В–∞—Б–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л
–Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є,
–Љ—Г–ґ–µ–љ–µ–Ї –Ь–∞—А—В—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ—Г—О —А–∞–љ–µ–µ –њ–Њ–і–ї—Г—О –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, - –≤–µ–і—М –њ—А–Њ–њ–∞–ї –ґ–µ, —З–µ—А—В –µ–≥–Њ –і–µ—А–Є. –Р –µ—Й–µ
–љ–µ–і–µ–ї—О –љ–∞–Ј–∞–і —Б—В—А–Њ–Є–ї –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О,
—В–µ–Љ–љ–Є–ї, –љ–∞—Г—Б—М–Ї–Є–≤–∞–ї –Ї –њ—А–Є—Б—В—Г–њ—Г –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л. –Ш
–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є—Б—З–µ–Ј. –Ш—Б—З–µ–Ј, –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Р –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М –ї–Є –Љ–љ–µ? –І—В–Њ
—П —В–∞–Ї–Њ–µ —В–µ–њ–µ—А—М, –Ј–і–µ—Б—М, —Б—А–µ–і–Є —З—Г–ґ–і—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є? –Ч–і–µ—Б—М –≤—Б–µ –љ–µ
—В–Њ, –Ј–і–µ—Б—М –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ, –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–Њ, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ –Є –љ–µ—В
–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–є, –∞ –µ—Б—В—М –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–ї—Л–є —Д–∞–Ї—В, —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є—П
–њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Н—В–Њ? –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї
—Б—В–Њ–ї—Г, –љ–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ—Г –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л.
–Ґ—А–Є —А–∞–Ј–∞ –њ—А–Њ–Ј–≤–µ–љ–µ–ї –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—М –Є, –µ–і–≤–∞
–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ–Њ—А–Њ–≥, –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –µ–Љ—Г —А—Г–Ї—Г.
-–Э–µ –ґ–µ–ї–∞–µ—И—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П?
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—П, –њ—А–Њ—И–µ–ї –Љ–Є–Љ–Њ, –µ–і–≤–∞ –Ј–∞–і–µ–≤ –њ–ї–µ—З–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞.
–Ч–∞–≥–ї—П–љ—Г–ї –≤ –њ–Њ–ї—Г–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –і–≤–µ—А–Є, –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї, –њ–Њ–і
–ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П.
-–Ю–і–Є–љ?
-–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, - –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П.
–У–Њ—Б—В—М –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –±—Г–і—В–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—П—Б—М, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –і–∞–ї–µ–µ –Є–ї–Є
—Б—А–∞–Ј—Г —Г–є—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є.
-–ѓ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–ґ—Г —В–µ–±—П, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Э–µ —Г–ї—Л–±–∞–є—Б—П, —П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ. –ѓ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–ґ—Г
—Б–µ–±—П –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є–ґ—Г —В–µ–±—П. –Ґ–µ–±—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—Л –µ—Й–µ –Ј–і–µ—Б—М, —Б–µ–±—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ
–њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б—В—А–µ–ї–Є—В—М —В–µ–±—П, - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–Њ–ї–µ–Ј –≤ –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є
–Ї–∞—А–Љ–∞–љ, –Ј–∞–Љ–µ—А –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–ї—Б—П. - –Ъ—Г—А–µ–≤–Њ –µ—Б—В—М?
-–Э–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ.
–Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—В—П–ґ–µ–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П
–Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–є —В–µ–Љ–µ.
-–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П, –Ї–∞–Ї –њ–∞—А—И–Є–≤–∞—П –Є—Й–µ–є–Ї–∞, —В–∞—Б–Ї–∞–ї—Б—П –Ј–∞ —В–Њ–±–Њ–є –њ–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є, –Љ–љ–µ
–±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ. –С—Л–ї–∞ —В–∞–є–љ–∞, –±—Л–ї —П, –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–є –µ–µ —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М, –±—Л–ї
–Њ–±—К–µ–Ї—В. –Ф–∞, –і—Г–Љ–∞–ї —П, —Г–ґ —Н—В–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В —В–∞–Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В. –Э–Њ—З—М, –±–µ—А–µ–≥, –≤–µ—В–µ—А, —Б—В–Њ–Є—В
–Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є–µ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–µ, –≥–Њ—А–і–Њ–µ, —З—Г–ґ–і–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –≤ —В–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ–µ. –Э—Г, –і—Г–Љ–∞—О, –≤–Њ—В –Њ–љ–Њ,
–њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ, —П–≤–Є–ї—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Є—Й–µ, –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї –Є–Ј —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л –Њ–≥–Њ–љ—М, –Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї
–њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–µ –±–µ—А–µ–≥–∞, –Ј–∞–≤–∞—А–Є—В—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –њ—Г—Б—В—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ, –љ–Њ –ґ–Є–≤–Њ–µ,
—Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞, –љ–Њ –≤–і—А—Г–≥ –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П. - –Ъ
—З–µ—А—В—Г, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ, –≤—Б–µ - –Є–≥—А–∞ —Д–∞–ї—М—И–Є–≤–∞—П, –і—А—П–љ–љ–∞—П, - –Є —Б —Н—В–Є–Љ–Є
–љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ї–Є–љ—Г–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –Њ–≥—А—Л–Ј–Њ–Ї –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–≥–Њ
—Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. - –Ь–љ–µ —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ —П –≤—Л—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–ї, –∞ –Љ–µ–љ—П –≤–Њ–і–Є–ї–Є,
–њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л, –њ–Њ–і–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –±—Г–і—Г...
-–Я–Њ—Б—В–Њ–є, - –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–ї—Б—П –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, - –Ї–∞–Ї —В—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤–Њ–і–Є–ї–Є?
–•–Љ, –≤–Њ–і–Є–ї–Є. –Т–µ—А–љ–Њ, –≤–µ—А–љ–Њ...
-–С—А–Њ—Б—М, - –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї—Б—П –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤. - –•–≤–∞—В–Є—В –µ—А–љ–Є—З–∞—В—М,
—Е–≤–∞—В–Є—В –Ї—А–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П. –° –Љ–µ–љ—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М-—В–Њ —П –њ–Њ–љ—П–ї, —З–µ–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞
—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –°–≤–Њ–ї–Њ—З–Є, - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ
–Ј–∞—В—П–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ —Д–Є–ї—М—В—А–∞ –Є —В—Г—В –ґ–µ –њ—А–Є–Ї—Г—А–Є–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О. –Э—Г —В–Њ—З—М –≤ —В–Њ—З—М, –Ї–∞–Ї
—Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —В–µ–Љ —А–∞–љ–љ–Є–Љ –љ–Њ—П–±—А—М—Б–Ї–Є–Љ —Г—В—А–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞–Ї—Ж–Є–Є –≤
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ. - –°–≤–Њ–ї–Њ—З–Є, - –µ—Й–µ –≥—А–Њ–Љ—З–µ –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤
–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї.
–•–Њ–Ј—П–Є–љ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤–Ј—П–ї —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ –Њ–±—А—Л–≤–Њ–Ї –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Є –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ
–њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞, –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Л–Љ. –Т—Б–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–ї–Њ –і–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–є –±—Г–Ї–≤–Њ—З–Ї–Є. –Э–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ
–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є. –Р –≥–Њ—Б—В—М –љ–∞–њ–Є—А–∞–ї –і–∞–ї–µ–µ:
-–Э–Њ —П —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї - –≤—Л –≤—Б–µ –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ. –Ь–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Л,
–Ї–∞–Љ–µ–љ—Й–Є–Ї–Є, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —Б—Г–і–µ–±. –ѓ –њ–ї–µ–≤–∞–ї –љ–∞ –≤–∞—И–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л,
—П –њ–ї–µ–≤–∞–ї, —П –≤–∞—Б –љ–µ –±–Њ—О—Б—М. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –≤—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –і—А—П–љ–љ–Њ–µ –ї–ґ–Є–≤–Њ–µ
–Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –≤—Б–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М, –Є—Б–њ–Њ—Е–∞–±–Є—В—М, –і–ї—П –≤–∞—Б –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ
—Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ...
-–Ф–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ - –і–ї—П –≤–∞—Б? - –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П.
-–Э—Г –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В—Л —Б—З–Є—В–∞–µ—И—М —Б–µ–±—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—В –љ–Є—Е. –Ф–∞ —В—Л
—Е—Г–ґ–µ –Є—Е –≤–Њ —Б—В–Њ –Ї—А–∞—В, —В—Л –µ—Б—В—М —Б–∞–Љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ–Є
–±–µ–Ј –Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤ - –љ–Є—З—В–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—О—В —В–µ–±—П –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г, –Љ–Њ–ї,
—Б–і–µ–ї–∞–є –љ–∞–Љ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –Є —Б–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –Ї–Њ–µ-—З–µ–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е
–≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ —В–Њ? - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є
–љ–Њ–≤–Њ–є –Є–і–µ–µ. - –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ—В —Г —В–µ–±—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –∞?
–Я–Њ—Б—В–Њ–є, –њ–Њ—Б—В–Њ–є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М... –Э—Г –і–∞, –≤—Б–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Ш –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ —В–≤–Њ–є -
–њ–Њ–і–ї–µ—Ж, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї –Є –≤—М–µ—В—Б—П. –І—В–Њ —В—Л –Љ–Њ—А—Й–Є—И—М—Б—П? –Э–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П, —З—В–Њ —П –Є
–Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞ –≤ –Њ–і–љ—Г –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О —Б —В–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї? –Р —З–µ–Љ –ґ–µ —В–µ–±–µ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ –љ–µ
–њ—А–Є—И–µ–ї—Б—П, —З–µ–Љ –Њ–љ —В–µ–±—П —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В? –Ґ—Л –і–∞–ґ–µ –≤—А–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї –±—А–µ–Ј–≥—Г–µ—И—М –Њ –љ–µ–Љ
—Б–ї—Л—И–∞—В—М? –Ґ—Л, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б—З–Є—В–∞–µ—И—М —Б–µ–±—П –ї—Г—З—И–µ –µ–≥–Њ? –Ґ–∞–Ї —П —В–µ–±–µ –Њ–і–љ—Г
–Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г, —А–∞–Ј–≤–µ—Б–µ–ї—Г—О, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –і–ї—П —В–µ–±—П –±—Г–і–µ—В. –Ц–Є–ї-–±—Л–ї –љ–Є–Ї—З–µ–Љ–љ—Л–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ–≤–Ј—А–∞—З–љ—Л–є, –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З, –і–∞ –Є
–њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї –і–ї—П –Є—Е –љ–∞–ї–Є—З–Є—П, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ,
–њ—Г—Б—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Њ—Б—М
–≤ –љ–µ–Љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ - –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–±—Б–Ї–∞—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.
–Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–∞—П, –љ–Є–Ј–Ї–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –С—Л–ї–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Г –љ–µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Љ–∞—В—М
–µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –і–ї—П –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞
–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —З—Г–≤—Б—В–≤. –•–Њ—В—П –Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –љ–µ–ґ–љ—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Г —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—А–∞–Ї–∞?
–Ь–Њ–ї—З–Є—И—М, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З? - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П. - –Ґ—Л –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ —Б–µ–±—П
—Б–∞–Љ—Л–Љ —Г–Љ–љ—Л–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—И—М. –Э–Њ —З—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г–Љ? –†–∞–Ј —В—Л —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л –ї—Г—З—И–µ –і—А—Г–≥–Є—Е
–Ї–∞–ї—П–Ї–∞–µ—И—М, —В–Њ —Г–ґ–µ –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –Є –≤—Л—И–µ –≤—Б–µ—Е? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ
—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М? –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, - –њ–Њ—З—В–Є
—И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤, —Г–і–Є–≤–ї—П—П—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, - –і–∞ –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л
—Б—В—А–∞—И–љ–Њ! –ѓ –≤–Њ—В –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ—А–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–ї—З–Њ–Ї –Є –≤–і—А—Г–≥
–њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї: –∞ –≤—А—П–і –ї–Є –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤ –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б—В—П–Ї–∞ —Г–Љ–µ—А. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, –µ–≥–Њ –Є
–њ–Њ—В—П–ґ–µ–ї–µ–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—И—М.
-–Ґ—Л –Њ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –ї–Є? - —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —Е–Є—В—А–Њ–≤–∞—В—Л–Љ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ
—Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ.
-–Э–µ—В, –і—А—Г–≥ –Љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є, —Н—В–Њ —П –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ —Б–µ–±–µ. –Ґ—Л —Б–ї—Г—И–∞–є
–і–∞–ї—М—И–µ. –Т–Њ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М —Б–µ–±–µ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ, –≤
–Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ, –і–≤–µ —В–∞–Ї–Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, - –љ–Є–Ј–Ї–∞—П, —В–∞, —З—В–Њ –љ–Є–Ї—З–µ–Љ–љ–∞—П, –Є –≥–Њ—А–і–∞—П,
—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П –љ–∞—В—Г—А–∞. –Ш —Н—В–∞ –љ–Є–Ј–Ї–∞—П, –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞, –Ј–∞–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є–≤
–љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –ґ–µ–љ—Л, - –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б –љ–∞—И–Є–Љ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, - –≤–і—А—Г–≥
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–µ –Њ–±–Њ–Ї—А–∞–ї–Є.
-–І–µ–њ—Г—Е–∞, —Б–∞–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, - —Б—Г—Е–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
-–Э–µ—В, —В—Л –њ–Њ—Б—В–Њ–є, —П –ґ–µ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї, —З—В–Њ–±—Л —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ—Й—М—О
–≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞—В—М—Б—П. –ѓ –Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Ґ—Л —Б–ї—Г—И–∞–є, —З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ. –Т–Њ—В —В—Л –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ —З—В–Њ
–±—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї?
-–Э–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ?
-–Р —З—В–Њ, –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –љ–µ –Ј–∞—А–µ–Ї–∞–є—Б—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –µ—Й–µ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—И—М—Б—П. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В
–±—Л—В—М, –Є —Г–ґ–µ...
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ–ї.
-–Ґ–∞–Ї –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї? –Ю–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Є —Б–∞–Љ –ґ–µ –µ–Љ—Г —Б–≤–Њ—О –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Г—О –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї. –Т–Њ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї
–≤—Л–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —Б–∞–Љ –і–∞–ї –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –µ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М,
–Љ–Њ–ї, –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Ш –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М
—Б–µ–±–µ, –љ–∞—И –≥–Њ—А–і—Л–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –≤–Ј—П–ї —Н—В–∞–Ї–Є–є –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј –ї–Є–њ–Ї–Є—Е —А—Г–Ї. –Т–Ј—П–ї.
–Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В—М? –Т–µ–і—М –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М -
–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ, –Ј–∞–±–µ—А–Є—В–µ —Б–≤–Њ–є –њ—А–µ–Ј–µ–љ—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –Љ–µ—А—Б–Є. –Э–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї,
–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Ъ—В–Њ –ґ–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Г –љ–∞—Б –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –≤—Л—И–µ–ї?
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї - –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В—М. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –Њ–ґ–Є–і–∞—П —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є. –Ч–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М
–≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б. –Ґ–∞–Ї –≤–µ—А—П—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є
–Љ–∞–ї–Њ–є –≤–µ—А–Њ–є –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—Г–Љ–Є—А—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є. –Т–µ—А—П—В –Є–Ј –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є –Ї —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ—Г
–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–≥—А–µ–± —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ –≥–∞–Ј–µ—В—Г —Б –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ
–Є –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–ї:
-–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В—Л –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Г–і–µ—И—М –Њ—В–Љ–µ–ґ–µ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П?! –Ф–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ї—З–Є
–ґ–µ! –Я—А–Є–Ј–љ–∞–є—Б—П, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Г—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞.
–І—В–Њ, –Љ–Њ–ї, —А–∞–і–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П
—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Я—А–Є–Ј–љ–∞–є—Б—П, —П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –њ–Њ–є–Љ—Г. –°–Ї–∞–ґ–Є: –і–∞,
–±—Л–ї –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–∞–ї, –љ–Њ —А–∞–і–Є. –°–Ї–∞–ґ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ "–і–∞".
-–Э–µ—В, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, - –≤—Л–і–∞–≤–Є–ї –±—Л–≤—И–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А.
-–Э–Њ —З—В–Њ —Н—В–Њ? - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤—П–ї–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї —И—Г—А—И–∞—Й–Є–є –Ї–Њ–Љ–Њ–Ї
–Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї.
-–Э–µ –Ј–љ–∞—О.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П. –Ю–±–Љ—П–Ї, —Б—Б—Г—В—Г–ї–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ-–і–Њ–ї–≥–Њ
–±–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ
–њ–Њ–≥–Њ–љ–Є –Є —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Л –Ј–∞ –љ–µ—Б–Љ—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —З–µ—А–љ–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є,
–њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П
–≤—П–ї–Њ –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ —Б–µ—А–Њ–Љ—Г –Ї–∞—Д–µ–ї—О, –њ–Њ –±–µ–ї—Л–Љ,
–≤—Л—З–Є—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –Ь–∞—А—В–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Ї—Г—Е–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є—В—Г—А–∞, —З—Г—В—М –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞
–ґ–µ–ї—В–Њ–Љ, –≤–µ—З–љ–Њ –і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О—Й–µ–Љ –њ—И–µ–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ, –Є —В–Є—Е–Њ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П.
-–Ч–љ–∞–µ—И—М, —З–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ? - —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—П
–і–Є–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–µ –≤—Б—Е–ї–Є–њ—Л–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –≥–Њ—Б—В—М. - –Ґ–∞–Ї —Е–Њ—З–µ—В—Б—П, –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є
—Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–∞–ґ–і—Л, –і–∞–ґ–µ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —Б–Љ–µ—И–љ–Њ...
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї —Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Г –Ј–∞–њ—Г—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П
—Б–Њ–±—А–∞—В–∞. –С—Л–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ
–Ј–ї–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –љ–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і,
–Ї–∞—А—В–µ–ґ–љ—Г—О –Є–≥—А—Г, –љ–∞–≥–ї—Г—О –њ—А–Є–і—Г—А–Ї–Њ–≤–∞—В—Г—О —А–Њ–ї—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞, —Н—В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–љ–∞—Е–∞–ї–∞. –У–і–µ –±—Л–ї–∞—П —Б–∞–Љ–Њ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –≥–і–µ –Њ–љ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є, –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞
–≤–µ—Й–Є? –£—И–ї–Є, —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—А–≤–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –љ–µ–≤–µ—Б–µ–ї—Л–є —Б–Љ–µ—Е,
–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤–Њ—В –Є —Б–Љ–µ—Е –Ј–∞—В–Є—Е.
-–Т–Њ—В –≤–Ј—П—В—М –±—Л, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, - –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≥–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—В–Є—А–∞—П
–њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–Є–є –≤–Є—Б–Њ–Ї, - —В—Г—В –ґ–µ, —Б–µ–є—З–∞—Б, –Ј–і–µ—Б—М, –≤–Ј—П—В—М –Є –њ—А–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П. –Р,
–У–Њ—А—Л–љ—Л—З? –†–∞–Ј–ї–µ–њ–Є—В—М –≤–µ–Ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М. - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤
–≤—Б–Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П. - –Ъ–∞–Ї —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ: —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—В—М –≤–Є–і–µ—В—М, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞.
–Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б? –Э—Г-–Ї–∞, –Є–і–Є —Б—О–і–∞ –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ, –і—А—Г–≥ –Љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–є, –і–∞–≤–∞–є
–≤—Б—В—А—П—Е–љ–µ–Љ—Б—П, –і–∞–≤–∞–є-–Ї–∞ —З–µ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М —Г–Ї–Њ–ї–µ–Љ—Б—П, –Є —В—Г—В –ґ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П —Н—В–Њ—В
–Є–і–Є–Њ—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–љ. –ѓ –±—Г–і—Г –і–∞–ї—М—И–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, –∞ —В—Л... –Ґ—Л —Г–µ–і–µ—И—М –Њ—В—Б—О–і–∞, —Г–є–і–µ—И—М,
–Ј–∞–є–Љ–µ—И—М—Б—П –љ–∞—Г–Ї–Њ–є, –љ–∞–і–µ–љ–µ—И—М –Њ—З–Ї–Є, –љ–∞–і–µ–љ–µ—И—М —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А—В—Л–є –њ–Є–і–ґ–∞–Ї,
–Ј–∞—А–Њ–µ—И—М—Б—П –≤ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л. –°–і–µ–ї–∞–µ—И—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –∞ —П
—В–µ–±—П –±—Г–і—Г –Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –Њ—В –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Э–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–є—Б—П, –Ј–љ–∞–є —Б–µ–±–µ —В–≤–Њ—А–Є –≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ
–њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–Є–љ—Л. –Я–Њ–≥–ї—П–і–Є –љ–∞ –љ–µ–µ, - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г
–±—Г—В—Л–ї–Њ—З–љ–Њ–є –љ–∞–Ї–ї–µ–є–Ї–Є. - –Я—Г—Б—В—М –Њ–љ–∞ –ґ–Є–≤–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –њ—Г—Б–Ї–∞–є —А–∞—Б—В–µ—В, —А–Њ–і–љ–∞—П.
–Ь–Њ–ґ–µ—В, –Є –Љ—Л, –У–Њ—А—Л–љ—Л—З, –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є–Љ? –Э–µ—Г–ґ—В–Њ —Б–Є–ї–µ–љ–Њ–Ї –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В?
–Ґ—Л –љ–µ –і—Г–Љ–∞–є, —П –µ—Й–µ –Љ—Г–ґ–Є–Ї - –Њ–≥–Њ! –£ –Љ–µ–љ—П, –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞–Ї–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П, –Є –≤
–≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –Є–Ј–≤–Є–љ–Є, –љ–µ —З–Є—Б—В—Л–є –≤–∞–Ї—Г—Г–Љ. –Ь—Л –≤—Б–µ - –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ - –≤—Б–µ
–њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–Љ—Б—П! –Э–∞–≥—А–∞–і –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ –ґ–і–∞—В—М, –љ–∞–≥—А–∞–і—Л —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Є–і—Г—В, - –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤
–Њ—Б–µ–Ї—Б—П, —Б —Е—А—Г—Б—В–Њ–Љ —Б–ґ–∞–ї –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ—З–Є. - –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, —Н—В–Њ
–њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П.
–Ю–±–∞ –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ.
-–Э–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, - –Љ—А–∞—З–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
-–І—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М, –У–Њ—А—Л–љ—Л—З?
-–Э–∞–і–Њ –µ—Е–∞—В—М.
-–Т —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г?
-–Ф–∞, –≤ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О, - —В–≤–µ—А–і–Њ —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї: -
–Ъ–∞—А—В—Г –њ—А–Є–љ–µ—Б?
-–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є—И—Г—О, - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ—А–Є—Й–µ–ї–Ї–љ—Г–ї –Ї–∞–±–ї—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –њ—Г—Е–ї—Л–є
–њ–∞–Ї–µ—В –Ј–ї–µ–є—И–µ–Љ—Г –≤—А–∞–≥—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П.
79
–≠—В–∞ —З–µ—А–љ–∞—П —А–≤–∞–љ–∞—П –і—Л—А–∞ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –С–Њ—И–Ї–Є –љ–µ –і–∞–µ—В –њ–Њ–Ї–Њ—П –Ш–Љ—П—А–µ–Ї—Г.
–Ю—В–Ї—Г–і–∞, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г? –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–µ–і—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–є
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—З—В—Л. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –љ–µ—Г–і–∞–≤—И—Г—О—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –С–Њ—И–Ї–Є.
–Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Њ—Б–µ—З–Ї–∞, –і–Њ—Б–∞–і–љ–∞—П, –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞. –С–Њ—И–Ї–∞ —Г—Б–њ–µ–ї —Г–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П.
–Р–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ, –Њ–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ. –Ф–∞ –Є –њ–Њ—П–≤–Є—Б—М —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ
–љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ–Њ–љ—П—В—М. –Э–Њ –≤–µ–і—М –љ–µ
–±—Л–ї–Њ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Э–µ–њ—А–Є—П—В–љ–∞—П —Б–ї–∞–і–Ї–Њ–≤–∞—В–∞—П —Б—Г–і–Њ—А–Њ–≥–∞ —Б–≤–Њ–і–Є—В —Б–Ї—Г–ї—Л. –Я–Њ –Њ–њ—Л—В—Г –і–Њ–ї–≥–Є—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї –Ј–љ–∞–µ—В: —А–∞–Ј —Б–≤–Њ–і–Є—В —Б–Ї—Г–ї—Л, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤—Л—А–≤–µ—В. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П
–Њ—В–≤–ї–µ—З—М—Б—П –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ–Љ - –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ
–љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Њ—А–љ–Њ–є, –ґ–µ–ї–∞—П —Е–Њ—В—М —В–∞–Ї –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –љ–Њ–≤–Њ–µ
—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Э–Њ –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–∞—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—П —Г—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞
–њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–µ—О—Й–µ–≥–Њ —В–µ–ї–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–є
—Е–∞–Њ—Б —В–µ–њ–ї–Њ–≤—Л—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є.
–Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ - –Љ—Л—Б–ї–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–і–Є–љ –Ј–ї–Њ–±–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Ј–і–µ—Б—М –≤—Б–µ –Є–і–µ—В –≤
–Њ–і–љ—Г –і—Г—А–∞—Ж–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–є—В–Є –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ - —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ–µ
–±–µ–ї—Г–ґ—М–µ –Ј–∞–≤—Л–≤–∞–љ–Є–µ. –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–ї–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л
–Є, –Ї–∞—З–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤–∞–ї–Є—В—Б—П –љ–∞ –µ–µ —А—Л—З–∞–≥–Є. –Э–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ,
–≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤—П–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –≥–ї—Г—Е–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є
—Б—В–Њ–љ. –С–µ–ї—Г–≥–∞, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–њ—П—В—М? - –Љ–µ–ї—М–Ї–∞–µ—В –≤ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ
–Љ–Њ–Ј–≥—Г. –Ш –Њ–љ –Њ–њ—П—В—М –±–µ–ґ–Є—В –њ—А–Њ—З—М –њ–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—Б–Ї—Г, –њ—А–Њ—З—М –Њ—В
–њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є, –і–∞–ї—М—И–µ, –і–∞–ї—М—И–µ, –≤–і–Њ–ї—М –Є–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—В–Њ–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є.
–У–і–µ-—В–Њ –ґ–µ –Њ–љ–∞ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П? –Э–Є–≥–і–µ. "–Ц–Є–Ј–љ—М –љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В", - —И–µ–њ—З–µ—В –Њ–љ
—Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –Њ–њ—П—В—М –і–µ—А–≥–∞–µ—В –Ј–∞ —А—Л—З–∞–≥–Є.
–Э–∞ —И—Г–Љ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –С–Њ—И–Ї–∞. –Т –≥—А–Є–Љ–µ, –≤ –њ–∞—А–Є–Ї–µ, —Б —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—З–µ—Б–∞–љ–љ–Њ–є
–љ–∞–Ј–∞–і —И–µ–≤–µ–ї—О—А–Њ–є, —Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –ї—О–±–Њ–є –њ–Њ–≤–Њ–і –Ї –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—О. –Ю–љ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В
–≤–Ј–і—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ —В–µ–ї–Њ, –њ–µ—А–µ–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —И–µ—О –Є —В–∞—Й–Є—В
–Ї –і–Є–≤–∞–љ—Г.
-–Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Й–∞—Б –њ—А–Њ–є–і–µ—В. –Ш—И—М, –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–∞—П, –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–ї–∞—Б—М. –Э—Г, –љ—Г,
–љ–µ –њ–ї–∞—З—М... –У–ї—П–љ—М, - –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л. - –Т–Є—И—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–і—А–µ–љ—М–Ї–Є–є
—А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї, —В–Њ–њ-—В–Њ–њ, –≤—Л—И–∞–≥–Є–≤–∞–ї. –•–Њ–Ј—П–Є–љ! –Ф–∞–≤–∞–є, –і–∞–≤–∞–є –Є —В–µ–њ–µ—А—М,
–њ–Њ–ї–µ–≥–Њ–љ—М–Ї—Г, –љ–Њ–ґ–Ї–∞–Љ–Є. –Т–Њ—В, –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ, —И–∞–≥ –≤–њ–µ—А–µ–і, –і–≤–∞ –љ–∞–Ј–∞–і, - –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –µ–ї–µ
–њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ј–∞–њ–ї–µ—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –љ–Њ–≥–Є. - –Э–Є—З–µ–≥–Њ, —В—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥, –∞ —П —В–µ–±–µ
–њ–Њ—Б–Њ–±–ї—О. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–њ–∞—Б–µ–Љ—Б—П.
-–І—В–Њ —В–∞–Љ? - —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П—Б—М, –Ш–Љ—П—А–µ–Ї —И–µ–≤–µ–ї–Є—В –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ—Г–ї—М—В–∞.
-–У–і–µ?
-–Ґ–∞–Љ, - –Ї—А—П—Е—В–Є—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї. - –Ґ–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї?
-–Р, —З–µ–њ—Г—Е–∞. –Э–µ –±–µ—А–Є –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є.
-–І–µ-–њ—Г-—Е–∞, - —А–∞—Б—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є —В—А–Њ–≥–∞–µ—В –±–Њ—И–Ї–Є–љ
–Ј–∞—В—Л–ї–Њ–Ї.
–Я–∞–ї–µ—Ж –Љ—П–≥–Ї–Њ –њ—А–Њ–і–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –њ–∞—А–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–є –љ–µ —З–µ—А–µ–њ
–і—А—П—Е–ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, –∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –і—Л—А–∞ —Б—В–∞–ї–∞
–µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ.
-–Ф–∞–≤–љ–Њ —Н—В–Њ —Г —В–µ–±—П? - —Г–ґ–µ —Б –і–Є–≤–∞–љ–∞ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –±–µ–ї—Г–ґ—М–Є–Љ–Є
—Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞–Љ–Є.
-–І—В–Њ - —Н—В–Њ? - –≥–ї—Г—Е–Њ –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –С–Њ—И–Ї–∞.
-–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ.
-–Ґ—Л, –њ—А–∞–≤–Њ, –Ї–∞–Ї —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, —А—Г—З–Њ–љ–Ї–∞–Љ–Є —И–µ–≤–µ–ї–Є—И—М: –њ–∞–њ–Њ—З–Ї–∞, –њ–∞–њ–Њ—З–Ї–∞, –і–∞
—З—В–Њ —Н—В–Њ, –і–∞ —З—В–Њ —В–Њ, –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—И—М—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ, - –С–Њ—И–Ї–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П
–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–Є–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤–∞–ї–Є–Ї. - –Э–µ —А–∞–і—Г–є—Б—П, —В—Л —В—Г—В –љ–Є –њ—А–Є —З–µ–Љ. –Ф–∞ –Є –Ї–∞–Ї –±—Л
—В—Л —Б–Љ–Њ–≥ –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞–Љ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П?
–Ф–∞, –і–∞, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ: –ї–Є–±–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ–Љ–Є—А–∞—В—М... - –С–Њ—И–Ї–∞
–Ј–∞–Љ–Є—А–∞–µ—В. - –°–ї–Њ–≤–Њ-—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ - –њ–Њ–Љ–Є—А–∞—В—М. –Ы–Є–±–Њ...
-–£–Љ–µ—А–µ—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, - –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ —В–µ–ї–Њ, –Є —Г–ґ–µ —З—Г—В—М –ї–Є
–љ–µ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ: - –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Г–±—М–µ—И—М? –Р?
-"–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Г–±—М–µ—И—М?", - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Г –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є.
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б—В—А–∞–і–∞–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В—М, –љ–Њ
–≤–і—А—Г–≥ —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П.
-–Ф–∞–≤–∞–є —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Г–Љ—А–µ–Љ. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Ш —В–µ–±–µ –ї–µ–≥—З–µ –±—Г–і–µ—В. –І—В–Њ
–Љ–µ—А—В–≤–Њ–Љ—Г —В–µ–ї—Г –і—Л—А–∞ –≤ –±–∞—И–Ї–µ, –µ—Б–ї–Є –Є —В–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ? –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –ґ–µ –Њ–і–љ–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–µ
—В–∞–Ї –ґ–Є—В—М, —Б –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ–Љ.
-–Ф–∞, —Г–ґ —Н—В–Њ –љ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М, - —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –С–Њ—И–Ї–∞, –љ–Њ –љ–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –∞ —Б
–Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–Њ—В–∞–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є. - –Ь–µ—А–Ј–љ—Г—В—М –≤ –Є—О–ї–µ –≥–ї—Г–њ–Њ, —Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –≠—В–Њ
–Ї–∞–Ї –±—Л —Г—В–Њ–љ—Г—В—М –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ –Є–ї–Є –≤ —Б—В–µ–њ–Є. –Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б. –Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б —Е–Њ—А–Њ—И –і–ї—П —Г–Љ–∞,
–љ–Њ –љ–µ –і–ї—П —В–µ–ї–∞. –Ґ–µ–ї—Г –љ—Г–ґ–љ—Л –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Є –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Ю—В—З–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї
—Г–Љ–Є—А–∞–µ—В? –Ю—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—А—В–Є—В—Б—П —В–µ–ї–Њ, –Є–Ј–љ–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —В—Г—Е–љ–µ—В, –Љ—П–≥—З–µ–µ—В... –Р
–µ—Б–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –∞? –Ф–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ—Г –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М -
–±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ –љ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ...
-–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П? - –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –љ–∞–њ—А—П–≥–∞–µ—В—Б—П.
-–І–µ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–ї—Б—П?
-–Ґ–∞–Ї, —Б–Њ–љ –Њ–і–Є–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, - –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є.
-–Ъ–∞–Ї–Њ–є —Б–Њ–љ? –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є, —П —Б—В—А–∞—Б—В—М –Ї–∞–Ї —Б–љ—Л –ї—О–±–ї—О. –І–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї, –љ–µ
–±–Њ–є—Б—П, —П –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г. –Ь–Њ–ї—З–Є—И—М? –°—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б–Њ–љ, —З—В–Њ –ї–Є?
-–Э–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є, - –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–Ї–Є. - –Э–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–є.
-–Э—Г –љ–∞–Љ–µ–Ї–љ–Є —Е–Њ—В—П –±—Л, –Њ —З–µ–Љ.
-–Э–µ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–є, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –Љ–љ–µ –Є —В–∞–Ї. –Ы—Г—З—И–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–є –Љ–љ–µ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М.
-–Я—А–Њ —З—В–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М?
-–Я—А–Њ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б—Г–і.
-–Ъ–∞–Ї–Њ–є —Б—Г–і? –Ю—В–Ї—Г–і–∞?
-–Ш–Ј —В–µ—В—А–∞–і–Ї–Є, - —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї.
-–Э–µ—В —В–∞–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, - —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—В—Б—П –С–Њ—И–Ї–∞.
-–Х—Б—В—М, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ —В–∞–Ї, –∞ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Є –µ—Б—В—М.
-–Ф–∞ –≥–і–µ –ґ–µ? - –С–Њ—И–Ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е–Є –Љ—П–≥–Ї—Г—О —В–µ—В—А–∞–і—М, —И—Г—А—И–Є—В
—Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є, –≤–Њ—В, –Љ–Њ–ї, —Б–∞–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є, –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–µ.
-–Э–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞... - –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї,
–Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—П –і–ї—П –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –≥–ї–∞–Ј–∞.
–С–Њ—И–Ї–∞ —Б–Љ–µ–µ—В—Б—П.
-–Э—Г, —В—Л —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б—Г–і, –µ—Б–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П —Д–Є–µ—Б—В–∞.
-–І–Є—В–∞–є, —З–Є—В–∞–є.
–С–Њ—И–Ї–∞ —Е–Љ—Л–Ї–∞–µ—В, –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—П –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –Є —З–Є—В–∞–µ—В:
-"–Э–Њ –њ—А–Є–і–µ—В –≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–ї–µ–і–Є—В—М
–Ј–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ш —П–≤–Є—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Ц–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–Љ—Г
–ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ, –Ј–≤–µ—А—О –Ј–≤–µ—А—М, –ґ–Є—В–µ–ї—О –ґ–Є—В–µ–ї—М. –Ъ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Є–і–µ—В —Б–Є–ї—М–љ—Л–є, –Ї
—Б–ї–∞–±–Њ–Љ—Г - —Б–ї–∞–±—Л–є. –Ш —В–∞–Ї –≤—Б–µ–Љ—Г. –Ъ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г –њ—А–Є–ї–Є–њ–љ–µ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ, –∞ –Ї
—Б—Г—Е–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–µ—В—Б—П —Б—Г—Е–Њ–µ. –С—А–∞—В—Г —П–≤–Є—В—Б—П –±—А–∞—В, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є, –∞ —А–∞–≤–љ—Л–є
—Б–µ–±–µ. –Ф–Њ—З–µ—А–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –Љ–∞—В—М, –љ–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –µ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є, –Є –і–µ–љ—М —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В
–і–µ–љ—М, –Є –±—Г–і—Г—В –Њ–љ–Є –Њ–±–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Р –≤—З–µ—А–∞ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї
–Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П –µ–Љ—Г —Б—З–µ—В. –Ш –±—Г–і—Г—В –Њ–љ–Є –≤—Б–µ —Г–≥–Њ—Й–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –љ–Њ –љ–µ —П–≤—Б—В–≤–∞–Љ–Є
—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –∞ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є. –°–ї–Њ–≤–Њ —Ж–Є—Д—А–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–µ—В –±—Л—В—М —З–Є—Б–ї–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–≤–Њ
–і–≤–Њ–є–љ–Є–Ї —А–∞—Б—В–∞–µ—В –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–≥, —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ–±—А–µ—В–µ—В –≤–Ї—Г—Б, –Є–±–Њ –њ–Є—Й–∞ –µ—Б—В—М
–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –і–µ–ї–Њ. –Ш –љ–µ –±—Г–і–µ—В –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ –≤—Л—Б—И–µ–Љ—Г –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ—В—М
–≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ, –∞ –Љ–Њ–ї—З—Г–љ—Г –Љ–Њ–ї—З—Г–љ–∞. –Ш –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–µ–±—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ
–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–µ. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З –і–ї—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –Є–±–Њ
—А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є —В–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –С—Г–і–µ—В
–Є–≥—А–∞—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –µ–µ –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–Є—В, –Є–±–Њ –Є–Љ—П —Н—В–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ - —Б–Љ–µ—А—В—М, –∞
–љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –і–≤–∞–ґ–і—Л —В–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ. –Я–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–µ—В
—Б–Љ—Л—Б–ї, –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –±—Г–і–µ—В –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –†–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В, –∞ —Ж–µ–ї–Њ–µ —Г–і–≤–Њ–Є—В—Б—П
–Є —Б—В–∞–љ–µ—В —А–∞–≤–љ—Л–Љ —Б–µ–±–µ. –Ф–Њ–Љ–∞ –±–µ–Ј –Ї—А—Л—И, —Г–ї–Є—Ж—Л –±–µ–Ј –і–Њ—А–Њ–≥, –њ–Њ–≤–Њ–і—Л—А–Є –±–µ–Ј –≥–ї–∞–Ј
- –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В. –Ю—А—Г—Й–Є–є –Њ–≥–ї–Њ—Е–љ–µ—В, –њ–ї–∞—З—Г—Й–Є–є –≤—Л—Б–Њ—Е–љ–µ—В, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–љ–µ—В. –Ш
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П. –Т–Њ—А–Њ–≤—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—Б—П. –Э–µ–ї—М–Ј—П —Г–Ї—А–∞—Б—В—М
–і–≤–∞–ґ–і—Л, –Є–±–Њ —В—Л –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ, –Є –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В –≤–µ—Й–µ–є. –Ґ–∞–Ї –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В
–Ї–Њ–ї—О—З–Є–є –ї–µ—Б, –≥–і–µ –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л—В—М. –Ґ–∞–Ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Њ–±—А–µ—В–µ—В –≥–Њ—А–Њ–і, –∞
–≥–Њ—А–Њ–і —А–Њ–і–Є–љ—Г, –∞ —А–Њ–і–Є–љ–∞ —В—А–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—Б—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ —В–Њ–Љ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В—А–Є –љ–µ –µ—Б—В—М —З–Є—Б–ї–Њ, –∞ –µ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М
–њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–µ—В –Љ—Г—З–Є—В—М—Б—П —Н—В–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ, –∞ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г. –Ш —Б—В–∞–љ–µ—В
–і–Њ—З—М —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –µ–Љ—Г: "–Ґ—Л –≤—Б–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї?". –Ш –Њ—В–≤–µ—В–Є—В –Њ–љ
–µ–є: "–Я—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ, –Є–±–Њ –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П, –∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ".
"–£–Ј–љ–∞–є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А—М", - –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В —Б–µ—Б—В—А–∞. "–Э–µ–ї—М–Ј—П —Г–Ј–љ–∞—В—М
–Њ–і–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ - —Н—В–Њ —П". –Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, —В–∞–Ї –µ–≥–Њ –љ–µ
—Б—В–∞–љ–µ—В, –Є–±–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –Љ–∞—В—М, –љ–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ
–µ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є. –Ш —А–∞–Ј–Њ–є–і—Г—В—Б—П —В–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞—И–µ–ї –њ–∞—А—Г, –∞ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—В —А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ
—Б–µ–±–µ, –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П, –Є–±–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М
—Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є."
–С–Њ—И–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ—В—А—Л–≤–∞–µ—В –±–µ—Б—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ—В —В–µ–Ї—Б—В–∞, –ґ–і–µ—В
—А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є.
-–Ь—Л –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–Є—В–µ–ї–Є, - –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –Ш–Љ—П—А–µ–Ї. - –Ь—Л –і—А—П—Е–ї—Л–µ, –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ
–і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–Є—В–µ–ї–Є. - –Ш–Љ—П—А–µ–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –љ–µ—А–≤–љ–Њ —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П. - –Ґ—Л –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї, –±—Г–і—В–Њ –Љ—Л
–±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л, –∞ –Љ—Л –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–Є—В–µ–ї–Є, —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В
—З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Є –і–Є–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ—Л, - –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Г–ґ–µ
–Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Є–Љ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ. - –£ —В–µ–±—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є, -
—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –∞ —Г –Љ–µ–љ—П - –±–µ–ї—Г–≥–∞. –Т–Њ—В –Ї–∞–Ј—Г—Б, —Е–∞. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –і—А—Г–ґ–Њ–Ї, –±—Г–і–µ—В
–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В...
-–Ф–∞, –±—Г–і–µ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, - —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ј—Г–±—Л —Ж–µ–і–Є—В –С–Њ—И–Ї–∞. - –Э–Њ –љ–µ —В–Њ—В. –С—Г–і–µ—В,
–±—Г–і–µ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–∞ –Є –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –њ–Њ–±–µ–і –Є
–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–є, —Б –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є, —Б —Д–µ–є–µ—А–≤–µ—А–Ї–Њ–Љ, —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ш
—В–Њ–≥–і–∞, –і–∞—Б—В –С–Њ–≥, –Њ—В—А–Њ–µ–Љ—Б—П –Є –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є. –Э–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞.
80
–Ґ—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –Њ—В–Њ—И–µ–ї –≤ –љ–Њ—З—М. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Б–Ї–Њ—А—Л–є, —Б –њ–Њ–ї—Г–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є
–Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є, —Б —Д–Є—А–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є, —Б—Л—В—Л–є, –Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, –≤ —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ
–Љ–Є–љ—Г—В—Л –Њ–±–Њ–≥–љ—Г–ї —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ —Е–Њ–ї–Љ—Л, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –љ–∞–і –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞–Љ–Є
–Т—Л–і—Г–±–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Ј–∞–≥—А–Њ–Љ—Л—Е–∞–ї –≤–і–Њ–ї—М —И–Є–њ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –±—Г–ї–∞–≤—Л –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ
–≥–µ—В—М–Љ–∞–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —З–Є—А–Ї–љ—Г–ї–Є –њ–Њ –≤–Њ–і–µ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Њ–≥–љ–Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є
–ї–∞–≤—А—Л, –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і –≤—Л—Б—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ –Є—О–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–µ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ
–Њ—В–Љ–µ–ї–Є, –Є—Б—З–µ–Ј, —А–∞—Б—В–∞—П–ї —Г—В—Л–Ї–∞–љ–љ—Л–є –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є —Д–Њ–љ–∞—А—П–Љ–Є –њ–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В.
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞–і —Е–∞–Њ—Б–Њ–Љ —З–µ—А–љ—Л—Е –і–∞—А–љ–Є—Ж–Ї–Є—Е –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї –≤—Б–њ–ї—Л–ї–Њ –≥—А—П–Ј–љ–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–µ
–Ј–∞—А–µ–≤–Њ –і–Њ–≥–Њ—А–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П. –≠–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ
—А–∞–Ј–Њ–≥–љ–∞–≤—И–Є—Б—М, –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ґ–Є—А–∞—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –µ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ
–і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ—В—А–µ–Ј–Њ–Ї.
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞, –≥–ї–Њ—В–∞–ї —Б–≤–µ–ґ–Є–є —В–µ–њ–ї—Л–є
–≤–µ—В–µ—А, —Й—Г—А–Є–ї—Б—П –і–Њ —Б–ї–µ–Ј, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П.
–І—В–Њ —В–∞–Љ, –љ–∞ —В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Њ—В—А–µ–Ј–Ї–∞, –Є –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ј–Ї–∞, –∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —О–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л
–≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞? –Ґ–∞–Љ –Њ–љ–∞, —В—А–µ—В—М—П,
–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—О—Й–∞—П –≤–µ—А—И–Є–љ–∞. –Х–µ –µ—Й–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –љ–µ—В, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М
–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П. –Т–µ—В–µ—А –≤—Л–њ–Њ—В—А–Њ—И–Є–ї –љ–∞–њ—А–Њ—З—М –≥–Њ—А—М–Ї–Є–µ
–Љ—Л—Б–ї–Є, –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞, –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–∞—П, —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П. –Ч—А—П –Њ–љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ
–љ–µ—В —Ж–µ–ї–µ–є, –∞ –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Ю–љ —Г–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞–ї, –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї, –њ—А–Є–њ—А—П—В—Л–≤–∞–ї
–Њ–і–љ—Г –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Г—О –Љ–µ—З—В—Г. –Ф–∞, —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —В–Њ, –Њ —З–µ–Љ –Љ—Л –Љ–Њ–ї—З–Є–Љ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ
—А–µ—И–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –Љ—Л—Б–ї—П—Е –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—В–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ. –Ґ—А–Є
—Б–Є–ї—Л, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е, —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е, —В—А–Є –≤–µ—А—И–Є–љ—Л, —В—А–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –≤–ї–∞–і–µ—О—В
–њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–µ–њ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–Љ. –Я—Г—В–∞—О—В, –Љ—Г—З–∞—О—В –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В –Љ–µ–ґ —В—А–µ—Е
—Г–њ—А—Г–≥–Є—Е —А–µ–±–µ—А. –Э–µ –Њ —В–Њ–Љ –ї–Є –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–ї –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ –љ–Њ—П–±—А–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞
—Б–µ–≤–µ—А, –≤ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б–љ–µ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞? –Ь—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –∞ –Љ–µ—З—В–∞–ї —Г–ґ–µ –Њ
–љ–µ–є. –Э–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї, –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї, —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Г–Љ—Г–і—А–Є–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤
–Є—О–ї—М –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М. –•–Њ—В—П –Ї–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є—О–ї—М –Ј–Є–Љ–Њ–є? –Ґ–∞–Ї, –Љ–µ—З—В–∞, —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П.
–Я—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –С—Л–Ї–Њ–≤–љ—П, –Є –Њ–љ –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ
–Љ–Њ—А–µ –Ї—А–Є—З–∞—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–љ. –°–Ї–Њ—А–Њ –±—Г–і—Г—В –С—А–Њ–≤–∞—А–Є, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —З–∞—Б–∞
–≥–Њ—А–Њ–і –Э–µ–ґ–Є–љ. –У–Њ—А–Њ–і –Э–µ–ґ–Є–љ –≤–µ—Б—М –Ј–∞—Б–љ–µ–ґ–µ–љ, –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –±—Л–≤—И–Є–є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–є
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—М –Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Й–µ–ї–Ї—Г –љ–∞
–њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –°—В–∞—А–Є–Ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Б—М —З–∞—О, —Б–њ–∞–ї –љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ.
–†—П–і–Њ–Љ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–µ –њ–Њ–Ј–≤—П–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –і–≤–µ —Б–Ї–ї—П–љ–Ї–Є –≤–∞–ї–Є–і–Њ–ї–∞. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –њ—А–Є—В—Г—И–Є–≤
—Б–≤–µ—В, —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–і –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Ї–∞—А—В–Њ–є, —Б–Є–і–µ–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°—В—А–Њ–≥–Є–є,
—Ж–≤–µ—В–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л –Љ—Г–љ–і–Є—А –±—Л–ї –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–µ–≥–љ—Г—В –і–Њ –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Ї–∞.
–Ч–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–µ –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Л –Є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е —Б–Є—П–ї–Є –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–Љ
–±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ. –Ы–Є—Ж–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О –і–ї—П
—Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, —А–µ—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ, –љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –Ї–Њ—Б–∞—П
–љ–µ—А–Њ–≤–љ–∞—П —З–µ—А—В–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –ї–±—Г —В–µ–њ–µ—А—М –ї–Є—И—М –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ —В–≤–µ—А–і–Њ—Б—В—М –Є
–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Ї—Г–њ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—Г—Б—В—Л–Љ, –∞
–±–Є–ї–µ—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ї–µ–ґ–∞—В—М –≤ —Ж–Є–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Є–і–ґ–∞–Ї–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞.
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –±—А–∞—В—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є. –Э–Њ —В–Њ—В –њ—А–Њ—Б–Є–ї, —Г–Љ–Њ–ї—П–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ
—Г–њ–µ—А—Б—П, –Љ–Њ–ї, –µ–Љ—Г –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Є—А–∞—В—М, –∞ –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є
—Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П. –Т–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –Є —Б–њ–Є—В. –•–Њ—В—М –±—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ—А,
–њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Є –≤–і—А—Г–≥ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤, –Ї–∞–Ї –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З
—Е–≤–∞—Б—В–∞–ї –і–∞–≤–µ—З–∞ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–Њ–є: "–Ь–µ–љ—П –љ–µ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–њ–Є—Б–∞—В—М, —П
—Г–ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В–±–Њ—А –њ—А–Њ—И–µ–ї, —З—В–Њ –µ—Й–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—В—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ".
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–і–≤–Є–љ—Г–ї –і–≤–µ—А–Ї—Г. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б
–Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Ї–∞—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Б–Є–ї—Г—Н—В—Л –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤, –њ–Њ—З—В–Є —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–љ,
—Г—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Б –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞
–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ –Є —Е—А–Є–њ–ї–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –Ј–∞–µ–Ј–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –±–Є–ї–µ—В.
-–Ф–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л?
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М —Б–Ї—А—Л—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ
–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ.
-–£—Б–Є—Е –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–∞, –∞ –≤—Л —Б—В–Њ–Є—В—Н –љ—Н–љ–∞—З–µ —Б—В–∞—В—Г—П, - –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М
–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞, —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—В–≤–µ—В–љ—Г—О —Г–ї—Л–±–Ї—Г, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: - –І–∞—О
–љ—Н—Б—В—Л?
-–Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ –њ–Є–ї —З–∞–є –њ—А—П–Љ–Њ —Г –Њ–Ї–љ–∞, —Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—В–∞–Ї–∞–љ –љ–∞ –љ–Є–Ј–Ї–Є–є
–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А–Њ–ґ–µ–Ї, –Ї—Г—А–Є–ї, —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –ї–Є—Ж–Њ –њ–Њ–і —Е–Њ–ї–Њ–і–µ—О—Й–Є–є
–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Ї. –Э–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞–Љ
—А–∞–і–Є–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ—А –Њ—А–∞–ї –њ—А–Њ –і–∞–ї—М–љ—О—О —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –њ—А–Њ —В–Њ, —З—В–Њ
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П, –њ—А–Њ –љ–Є–≤—Л, —Е–ї–µ–±–∞ –Є —Б–Є–љ–Є–µ –Љ–µ—В–µ–ї–Є. –Ш–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –Є–Ј –Ї—Г–њ–µ
–≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, –Љ–Њ–ї—З–∞ –њ–µ—А–µ–Ї—Г—А–Є–≤–∞–ї –Є —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ
–Ї–∞—А—В–∞–Љ.
–Я—А–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –Э–µ–ґ–Є–љ. –Т—Б–µ —И–ї–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –њ—А–Є—В—Г—И–Є–ї–Є —Б–≤–µ—В,
–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–±—А–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –Ї—Г–њ–µ. –°–Ї–Њ—А–Њ –С–∞—Е–Љ–∞—З, –∞ —В–∞–Љ - —В–∞–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –њ–Њ–ї–љ–∞—П
—В–µ–Љ–µ–љ—М, –Є –і–∞—Б—В –С–Њ–≥, –Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–Љ. –Ф–∞ –Є —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞—В—М?
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–µ–њ–ї—Л–є —Г—О—В–љ—Л–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ —Б —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В—Л–Љ–Є
–њ–Њ–ї—П–љ–∞–Љ–Є, –Љ–µ–ї—М–Ї–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–∞–і–Њ–Ї. –Э–Є—З–µ–≥–Њ
–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є—А–љ—Л–µ —В—Г—Б–Ї–ї—Л–µ –њ—П—В–љ–∞ –њ—И–µ–љ–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–µ–є, –Њ–±—А—Л–≤–Ї–Є
–±–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Л—Е, –Њ—Б–Є–љ–Њ–≤—Л—Е, —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ—Л—Е —А–Њ—Й, —А–µ–і–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Ї–Є –њ–ї–∞–Ї—Г—З–Є—Е –Є–≤ –Є
–і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Є –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—О—Й–Є—Е —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–ї. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–ї —Б–Є–і–µ–љ—М–µ,
—Б–µ–ї –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞.
–Ш –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї –Є—О–ї—М, –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є, –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Т–µ—З–µ—А.
–°–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –Ї—А—Г–≥–ї–∞—П, –ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А—В–Њ–љ–∞, –ї—Г–љ–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤–µ—З–µ—А
–њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –° —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —Г—В—А–∞, —З–∞—Б–Њ–≤ —Б —И–µ—Б—В–Є,
–њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –ґ–∞—А—Л. –Т–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ
–≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–µ —В–µ–њ–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Є –і–∞–ґ–µ —А–µ–і–Ї–Є–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ –Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П
—Б–Є–Ј–∞—П –∞—Н—А–Њ–Ј–Њ–ї—М. –Ф–∞–ї—М—И–µ - –і–∞–ї—М—И–µ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤—П—В—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ
–ї–µ—В–љ–Є–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –±—Г–і—Г—В —Б–њ–µ—И–Є—В—М, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ—А—Г–≥–Є–≤–∞—П –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ
–њ–µ–Ї–ї–Њ, –љ—Л—А—П—В—М –≤ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ–µ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–µ–ї—М–µ. –Ф–∞, –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –љ–µ —Ж–µ–љ—П—В
–ї–µ—В–љ—О—О –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ј–і–µ—Б—М —Б–ї—Г—З–∞—О—В—Б—П –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–µ
–Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, –Љ–µ—З—В–∞—О—В –ї–Є—И—М –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ: –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞, –Є
–±–µ–ґ–∞—В—М, –±–µ–ґ–∞—В—М –≤–Њ–љ –Є–Ј —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ш–Љ –љ–µ–≤–і–Њ–Љ–µ–Ї, —З—В–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї
—А–µ–і–Ї–Є–є, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Є—О–ї–µ. –Ю–љ–Є
–і—Г–Љ–∞—О—В: —А–∞–Ј —Б —Г—В—А–∞ –њ–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞–Љ –Є –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є –њ–Њ–ї–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л–µ
–Љ–∞—И–Є–љ—Л, —В–Њ –≤—Б–µ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ —Б–≤–µ–і–µ—В—Б—П –Ї –і–Њ–ї–≥–Њ–є –Є–Ј–љ—Г—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і—Г—Е–Њ—В–µ, –ї–Є–њ–Ї–Њ–є,
–Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —З–∞—Б–∞–Љ –Ї —З–µ—В—Л—А–µ–Љ, –њ—П—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –≤—Б–µ—Е
–њ–Њ—А–∞—Б–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—Б—П. –Э–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П, —Б–Є–ї –і–ї—П
—А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Њ—В –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є–≤–љ—П.
–Э–Њ –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В –љ–µ —В–∞–Ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї. –Х–і–≤–∞ —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ
–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —В–µ—А–Љ–Њ–Љ–µ—В—А–∞ –і–Њ—Б—В–∞–љ–µ—В –і–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–≥—А–∞–і—Г—Б–љ–Њ–є –Њ—В–Љ–µ—В–Ї–Є, —Б
—О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–∞, —Б –Я–∞—Е—А—Л, –љ–∞–ї–µ—В–Є—В –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї—М–Ї–∞–і–∞
–≥—А–Њ–Љ—Л—Е–∞—О—Й–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж, –Є –љ–∞ —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Л—И–Є, –≤–і–Њ–ї—М —И–њ–Є–ї–µ–є –Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї
–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Є–Њ—Б–Ї–∞–Љ, –њ–Њ –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–Љ –њ–ї–Є—В–∞–Љ, –љ–∞
—Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤—Л–є —А–∞–Ј–Њ–Љ–ї–µ–≤—И–Є–є –∞—Б—Д–∞–ї—М—В –њ–∞–і—Г—В –≤–µ—Б–µ–ї—Л–µ –Ј–≤–µ–љ—П—Й–Є–µ –і–Њ–ґ–і–Є. –Ш –њ–Њ–є–і–µ—В
–≤–Њ–і—П–љ–∞—П –Ї–∞—А—Г—Б–µ–ї—М –Ї—А—Г–ґ–Є—В—М –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л–Љ –Њ—Б–≤–µ–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ. –Э–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ
–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–Є, –Ј–∞—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л–µ –≤—А–∞—Б–њ–ї–Њ—Е, –њ—А–Є–ґ–Љ—Г—В—Б—П –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–ґ–Ї–µ –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞
–Ъ—А–Њ–њ–Њ—В–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і –∞—А–Ї–Њ–є –Є –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –Љ–Є–≥ –≤—Л–Љ–Њ–Ї–љ—Г—В –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –љ–Є—В–Ї–Є, –љ–µ
—Б–њ–∞—Б—Г—В—Б—П –Є –њ–Њ–і —П–±–ї–Њ–љ—П–Љ–Є –љ–∞ –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤—Л—Е –≥–Њ—А–∞—Е, –љ–Є –њ–Њ–і –ї–Є–њ–∞–Љ–Є –≤
–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г. –Я–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–Є –њ–∞—А–∞–і–љ—Л—Е, –њ–Њ–і –љ–∞–≤–µ—Б—Л, –њ–Њ–і –Ј–Њ–љ—В—Л –±—Г–і–µ—В
—Е–ї–µ—Б—В–∞—В—М –Ї–Њ—Б—Л–Љ–Є —Г–њ—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б—В—А—Г—П–Љ–Є. –Э–Њ –µ—Й–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ—О—В —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞—В—М—Б—П
–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –Ї–∞–Ї –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–µ —Б—В–Є—Е–љ–µ—В,
–њ—А–µ—А–≤–µ—В—Б—П, –≤—Л–≥–ї—П–љ–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ —В—Г—З –њ—А–Њ–ґ–Њ—А–ї–Є–≤–Њ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ –Є –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В—М —З–∞—Б–∞
–≤—Л—Б—Г—И–Є—В –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ї—И–µ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ–љ–Њ, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ,
—А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –Њ—В —П—А–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞, —В—Г—В –ґ–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г,
–µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—О –≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є–Є. –Ґ–∞–Ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ
–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—Б—П, —В–∞–Ї –Є –±—Г–і–µ—В –Ї—Г—А–Њ–ї–µ—Б–Є—В—М –љ–∞–і –Њ—И–∞—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є, —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї—П—П
—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М, —В–Њ —В–∞–Љ —Б–µ–Љ–Є—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ –і—Г–≥–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В –Ї –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ–є
–Є–≥—А–µ –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і—Л –Є –њ–Њ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–Њ–ґ–і—М –љ–µ —Б–±—А–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–µ–Љ—М –Њ—Б–≤–µ–ґ–∞—О—Й–Є–є –≥—А—Г–Ј –Є
–љ–µ —Г–Љ—З–Є—В—Б—П –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Ї—Г—З–µ–≤—Л–Љ–Є –Њ–±–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є –≤–і–∞–ї—М, –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —З–µ—А—В—Г. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ
–љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –і–Њ–ї–≥–Є–є –≤–µ—З–µ—А, –Є —В–µ–њ–ї—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є –Є—Б–њ–∞—А—П—В –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ—Г—В –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г
–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–Њ–ґ–і—П, –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј—Г—В –њ–Њ –љ–Є–Ј–Њ–≤—М—П–Љ —А–µ–Ї –Є —А–µ—З—Г—И–µ–Ї —Б–Є–Ј—Л–µ —В—Г–Љ–∞–љ—Л, –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е
—Б—В–∞–љ–µ—В –љ–µ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≥–∞–Ј–Њ–Љ, –∞ –њ–∞—А–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ. –У–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ –Ы—Г–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е, –Є–ї–Є
—Г —В–µ–∞—В—А–∞ –≠—Б—В—А–∞–і—Л, –Є–ї–Є –љ–∞ –С–µ—А–µ–ґ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Ј–∞–±—А–Њ—Б—П—В —Г–і–Њ—З–Ї–Є
–Ї–Њ–њ—З–µ–љ—Л–µ —А—Л–±–∞–Ї–Є, –љ–∞–і–µ—А–љ—Г–≤ –љ–∞ –Ї—А—О—З–Њ–Ї —И–µ—А—И–∞–≤—Г—О —А–µ—З–љ—Г—О –≤–Њ–і–Њ—А–Њ—Б–ї—М, –Є –±—Г–і—Г—В
—Б—В–Њ—П—В—М –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є, –њ–Њ–Ї—Г—А–Є–≤–∞—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є –і—Г–Ї–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–∞–±–∞–Ї, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ
–≤–Ј–Њ–є–і–µ—В –≤ —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –ґ–µ–ї—В—Л–є –Ї–∞—А—В–Њ–љ–љ—Л–є –Ї—А—Г–≥. –Р –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ, —Г
–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, —Б–Њ–є–і—Г—В –ї—О–і–Є —Б —А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є—З–Є–Ї–∞, —Б—П–і—Г—В –љ–∞
—В–µ–њ–ї—Л–µ —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –Є —В–Є—Е–Њ –±—Г–і—Г—В –±–Њ–ї—В–∞—В—М –±–Њ—Б—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ –Љ–∞—Б–ї—П–љ—Л—Е –≤–Њ–і–∞—Е
–Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л-—А–µ–Ї–Є.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Г—Б–љ—Г–ї. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ–љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ–Њ
–≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ –њ–Њ—В—А—П—Б–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Њ.
-–Ш–і—Л—В—М —Б–Њ–±–Є —Б–њ–∞—В—Л, –і—П–і—М–Ї—Г.
-–Ф–∞, –і–∞, —Б–µ–є—З–∞—Б, - —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А, –њ–Њ—В–Є—А–∞—П –Ј–∞—В–µ–Ї—И—Г—О —А—Г–Ї—Г. - –І—В–Њ
–С–∞—Е–Љ–∞—З?
-–Я—А–Њ–є–Є—Е–∞–ї—Л –С–∞—Е–Љ–∞—З.
–Т –Ї—Г–њ–µ –≤—Б–µ —Б–њ–∞–ї–Є. –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –ї–µ–ґ–∞ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ, –њ–Њ—Е—А–∞–њ—Л–≤–∞–ї,
–Њ—В–≥–Њ–љ—П—П –Њ—В —Б–µ–±—П –љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤—Л –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–∞—А—В–Є–Є, –∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, –њ—Л—В–∞—П—Б—М
—Б–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї–∞–ї–∞—З–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–≤–µ—Б–Є–ї –љ–∞–і –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М,
–≤–Њ—В-–≤–Њ—В —Б–≤–∞–ї–Є—В—Б—П –≤–љ–Є–Ј. –Э–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П, –∞ —А—Г–Ї—Г –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї –њ–Њ–і –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г, –≥–і–µ
–љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –°–љ–Є–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г —А–∞–Ј–љ—Л–µ –љ–µ–ї–µ–њ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є. –С—Г–і—В–Њ –љ–∞–і
–љ–Є–Љ —И—Г–Љ–Є—В —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ–∞—П —А–Њ—Й–∞, –∞ —А–Њ—Й–Є –љ–µ—В. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –ґ–µ –љ–µ –Ј–µ–Љ–ї—П, –∞ —Е–ї–Є–њ–Ї–∞—П
—В–Њ–њ—М, –±–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Є –Њ–љ –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ - —Б–µ—А–∞—П –±–µ—Б–њ–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ—И–∞–і—М.
–Ы–Њ—И–∞–і—М —В—П–љ–µ—В —В–µ–ї–µ–≥—Г, –≥—А—Г–ґ–µ–љ—Г—О –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–ї–Љ–∞–Ј–∞–Љ–Є (–њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–љ
–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є), –љ–Њ –љ–µ –љ–∞ –Ї—А–∞–є, –Ї —Б—Г—И–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П
—Г–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ —Б–љ—Г—О—Й–Є–Љ —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞ –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–Є—Б—В–∞–Љ, –∞ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–љ—О—З–µ–Љ—Г,
–Љ–Њ–Ї—А–Њ–Љ—Г, –ї–Є—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ—А—Г–≥–Њ—Б—В–Є —Ж–µ–љ—В—А—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ
–≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П –ї–Њ—И–∞–і—М, –∞ –ї–Њ—И–∞–і—М –Є–Ј –Ј–∞–і–∞—З–Ї–Є –њ—А–Њ —В—А–µ—В–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ
–Э—М—О—В–Њ–љ–∞, –њ—А–Њ —Б–Є–ї—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ш —В—Г—В –µ–Љ—Г –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж
—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—Б–љ–Њ, –Њ—В—З–µ–≥–Њ —Н—В–∞ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–∞—П —В–µ–ї–µ–≥–∞, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –Э—М—О—В–Њ–љ–∞,
–≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є. –Я—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П,
–≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞–Љ, –љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, –Ї–∞–Ї —В—П–ґ–µ–ї–∞ –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–∞,
–Ї–∞–Ї –±–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–ґ–µ—В –њ–ї–µ—З–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –і–µ—В–∞–ї—М. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ–Њ –Ї–Њ—З–Ї–∞–Љ
–њ—А—Л–≥–∞—О—В –њ—В–Є—Ж—Л –Ї—Г–ї–Є–Ї–Є, –Њ–ґ–Є–і–∞—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Є—Е –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–ї—О–≤—Л –њ–Њ–њ–∞–і—Г—В—Б—П –≥–ї—Г–њ—Л–µ
–ї—П–≥—Г—И–∞—В–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –Ї—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤-—В–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –Є,
–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –і–∞–µ—В –Є–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ. –Ъ —Ж–µ–љ—В—А—Г –±–Њ–ї–Њ—В–∞ –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ
–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—И–µ–Ї –Є –Ї–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤, –Є –Њ–љ –µ–і–≤–∞ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В —И–ї–µ–њ–∞—В—М –Є—Е
–љ–µ–Ј–∞–љ—П—В—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є
–Є –љ–µ–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ–Њ –≤—П–Ј–љ–µ—В –≤ —В–µ–њ–ї–Њ–є, —Б —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Л–љ—М–µ. –Ґ–∞–Љ,
–≤–љ—Г—В—А–Є –±–Њ–ї–Њ—В–∞, –µ–≥–Њ –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї—Г–і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–ї–µ–≥–∞, –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї
—Б –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї–Є—В–µ–ї–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М –±–Є–ї–µ—В. –°–ї—Л—И–∞—В—Б—П
–і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –њ–µ—А–µ—А—Г–≥–Є–≤–∞–љ–Є–µ. –Ь–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —Б —Н—Е–Њ–Љ,
—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В: "–Я–Њ–µ–Ј–і —Б–Ї–Њ—А—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А –і–≤–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є
–њ—Г—В—М". –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Ї—Г –Є,
—Й—Г—А—П—Б—М –Њ—В –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞, –њ—А–Њ—З–µ–ї: "–Ъ–Ю–Э–Ю–Ґ–Ю–Я". –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї
–њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–µ–Ј–±–Є–ї–µ—В–љ—Л–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В –Ъ–Њ—Б—В—П
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –њ—А–Є –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–µ –Ї –Ъ–Њ–љ–Њ—В–Њ–њ—Г, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г –љ–∞ —Н—В–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ,
–≥–і–µ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ—А—Л –њ–Њ—В—А–Њ—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –љ–µ–Њ–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е
–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞–є—Ж–µ–≤, –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Г—О —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –њ—Л–ї–Є —В—А–µ—В—М—О
–њ–Њ–ї–Ї—Г –Є –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–є–і—Г—В –Љ–Є–Љ–Њ –љ–µ–Ј–≤–∞–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є. –І–µ–≥–Њ –ґ–µ —В–µ–њ–µ—А—М
–њ—Г–≥–∞—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є —Г –љ–Є—Е –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≥–Њ—Б–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –њ–Њ–і –њ–Њ–і—Г—И–Ї–Њ–є —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ
–Њ—А—Г–ґ–Є–µ?
–°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ–µ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤
–њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –ї–Њ–Ї–Њ—В—М, –Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П. –Ъ—В–Њ-—В–Њ
—В—П–ґ–µ–ї—Л–є –Є –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–є, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–і–≤–µ–і—М, —И–µ–ї –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Г, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ
–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –Є –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞—П –і–≤–µ—А–Є. –Ю—В –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞ –Є —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–∞, –Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П
–љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ —Б—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є, –і–∞–ґ–µ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї —Е—А–∞–њ–µ—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–і–≤–µ–і—М
–≤–Ј—П–ї—Б—П –Ј–∞ —А—Г—З–Ї—Г –Є—Е –і–≤–µ—А–Є, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, —А–µ–Ј–Ї–Њ
—Б–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї —Б –ї–µ–ґ–∞–љ–Ї–Є –Є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ —Й–µ–ї–Ї–љ—Г–ї –љ–Є–Ї–µ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ. –Ґ—Г—В –ґ–µ
–і–≤–µ—А—М –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М, –Є –≤ —Г–Ј–Ї–Њ–є —Й–µ–ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ.
-–Ь–µ—Б—В–∞ –µ—Б—В—М? - –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –±–Њ–і—А—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Њ –ї–Є—Ж–Њ,
–Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–µ—З–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ—О—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Ї—Г.
–Ъ—Г–њ–µ, –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–µ —П—А–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О "–Ъ–Ю–Э–Ю–Ґ–Ю–Я", –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ
–њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Љ—А–∞–Ї–∞.
-–Э—Н–Љ–∞–µ, - –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ.
–Ы–Є—Ж–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Ї—Г –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ:
-–Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ.
–Ф–≤–µ—А—М –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞
–њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–≤, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–Є–ї—Б—П, —Б–њ—П—В –ї–Є –Њ–љ–Є. –Ю—В—З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї
—А–∞–Ј–љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї—Б—П? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—Г—Б—В—П—И–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞
–±–Є–ї–µ—В–Њ–≤, –њ—Г—Б—В—П—И–љ–Њ–µ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї–Є, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ
–≤—Л–≤–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –Є–Ј —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П? –Т–µ–і—М —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О,
–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Є–Љ–µ–ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Г—О –∞–Ї—Ж–Є—О.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ —Б–∞–Љ, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, –±–µ–Ј –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞, –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е
–њ—А–Є—З–Є–љ —Б—В–∞–ї –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞. –Ф–∞, —Б–∞–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ, –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г
—Е–Њ—В–µ–љ–Є—О. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г
—З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М? –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л
–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—И—М –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—И—М, –∞ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—И—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ
–≥–і–µ-—В–Њ —Г–ґ–µ –µ—Б—В—М, —А–∞–Ј –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В. –Ю–љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ
–њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –±–µ–≥—Г—В –Љ—Г—А–∞—И–Ї–Є –њ–Њ —Б–њ–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –≤–љ—Г—В—А–Є
—В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–µ–µ—В, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —В—Л –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї,
–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є
–≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—З–µ–Љ—Г –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≤–∞—В–Њ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Б—В–∞—В—М
–љ–Њ–≤—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –≤–µ–і—М –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—Г–≥–∞–µ—В, –њ—Г–≥–∞–µ—В –Є –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —Г–ґ–µ —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –Ј–∞—В—Л–ї–Њ–Ї –±—Л–≤—И–µ–Љ—Г –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї—Г, –љ–Њ
–љ–µ —Б–љ–Є–Ј—Г –≤–≤–µ—А—Е, –Ї–∞–Ї —А–∞–љ—М—И–µ, –∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–≤–љ—Л–є –љ–∞ —А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ. –Ф–∞, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –≤–µ—Й—М
–Њ–њ–∞—Б–љ–∞—П. –Т—Б–µ –љ–∞—Б—В–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В, –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П, –≥–і–µ —З—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П,
–њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј–µ—В, —И–µ–≤–µ–ї—М–љ–µ—В—Б—П - –≤—Б–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —В—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М
—Б–µ–±—П, —В–Њ –±—Г–і—М –і–Њ–±—А, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–є –Ј–∞ –≤—Б–µ–Љ, –≤—Б–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–є, –љ–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –≤–≤–Њ–і–Є
–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї—Г. –Х—Б–ї–Є –≥–і–µ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ—П—З–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ - –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї—Г –љ–∞ –≤–µ—В–µ—А –њ—А–Є–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є
–≥–і–µ —Б–≤—П–Ј—М –Њ–±–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М - —Г–Ј–µ–ї–Њ–Ї –Ј–∞–≤—П–ґ–Є, –љ—Г –∞ –µ–ґ–µ–ї–Є –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—А—В–Є—В—Б—П,
–≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—В–µ—В - –≤ –Ї—А–Њ–≤—М —А–∞–Ј–±–µ–є—Б—П, –∞ –њ–Њ—А–Њ—Е –і–µ—А–ґ–Є —Б—Г—Е–Є–Љ. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –µ—Й–µ
—А–∞–Ј –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞, —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–њ–Є—В, –Є —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М
–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤—Б–µ —В—А–Њ–µ —Г—Б–љ—Г–ї–Є. –Ш—Е –µ—Й–µ –ґ–Є–≤—Л–µ —В–µ–ї–∞ –µ–і–≤–∞ –њ–Њ–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї
–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –і—Г—И–Є, –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г
–≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О, –њ–∞—А–Є–ї–Є –љ–∞–і —Б–ї–µ–њ–Њ–є –Є—О–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–Њ—З—М—О. –Я—А–Њ–µ—Е–∞–ї–Є —Е—Г—В–Њ—А
–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –С—А—П–љ—Б–Ї. –Т—Б–µ —И–ї–Њ –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О, –±–µ–Ј —Б—А—Л–≤–Њ–≤, –±–µ–Ј —Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–є.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ, —З–∞—Б–∞ –Ј–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З
–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Ј–∞–≤–Њ—А–Њ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ. –Х–Љ—Г —Б–љ–Є–ї—Б—П –Ј–∞—В–µ—А—П–љ–љ—Л–є –≤ –≥—Г—Б—В—Л—Е
–љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –ї–µ—Б–∞—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ. –Ф–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –Ї—А–∞—И–µ–љ—Л–є
—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—А–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є, –Ї—А—Г—В–∞—П –Љ–Њ—Й–µ–љ–∞—П —Г–ї–Є—Ж–∞ —Б –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ —В—А–Њ—В—Г–∞—А–Њ–Љ –Є
–Є—Б—В–µ—А—В—Л–є –і–Њ –±–ї–µ—Б–Ї–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А—Л—З–∞–≥ –∞—А—В–µ–Ј–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —Б–љ–Є–Ј—Г,
–Њ—В –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤–≤–µ—А—Е, —В–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≥–Њ—А–±–∞—В–∞—П, –≤ —Г—Е–∞–±–∞—Е, —Г–ї–Є—Ж–∞
—Г–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —Б–Є–љ–µ–µ –љ–µ–±–Њ, –Є –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–Є—Б—В –≤ –±–µ–ї–Њ–є –њ–∞—А—Г—Б–Є–љ–Њ–≤–Њ–є
—И–ї—П–њ–µ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –∞ –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ
–µ–Љ—Г, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –Є–і—В–Є —Б –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–Њ–Љ –≤–≤–µ—А—Е, —В—П–ґ–µ–ї–Њ —В—А–∞—В–Є—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ
—Б—В–∞—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л, –Ј–љ–∞—П –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є
—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є. –Э–Њ —З–µ—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є –Љ–∞–љ–Є—В –Ї–Њ—Б–Њ–≥–Њ—А. –Ъ–Њ—Б–Њ–≥–Њ—А - —Н—В–Њ
—В–∞–Ї–Њ–µ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–Є–Љ—Г–ї, —В–∞–Ї–Њ–µ —З—Г–і–Њ,
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є. –Ф–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –±–µ–Ј
–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є, –±–µ–Ј –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–≤, –≤–≤–µ—А—Е, –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –≥–Њ–ї—Г–±—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М. –Ч–∞–±—Л—В—М –Њ
—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—Е, –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–µ—А—Л—Е –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞—Е, –≤–Ј–ї–µ—В–µ—В—М, –≤–Њ—Б–њ–∞—А–Є—В—М, —Е–Њ—В—М
–Ї–∞–Ї, —Е–Њ—В—М —Б —З–µ–Љ, –љ–∞ –∞–≤–Њ—Б—М, –ї–Є—И—М –±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Л –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ
–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—З–Є–љ –Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Г –ґ–∞–ї–Ї–Њ –і–Њ —Б–ї–µ–Ј —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞. –Ю–љ
–Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ —В–∞–Љ, –Ј–∞ –Ї–Њ—Б–Њ–≥–Њ—А–Њ–Љ, —В–Њ—В –ґ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Њ, —В–µ –ґ–µ —Б–µ—А—Л–µ –љ–µ—Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ
–і–Њ–Љ–∞, —В–∞ –ґ–µ –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–∞—П –љ–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –Є –µ–Љ—Г
–љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П: –њ—Г—Б—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В —З—Г–і–Њ, –њ—Г—Б—В—М —Е–Њ—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –±—Г–і–µ—В
–і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –Є–ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –∞ –ї—Г—З—И–µ -
–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —Б–µ—А–µ–±—А–Є—Б—В–∞—П –Љ–∞—Е–Є–љ–∞. –Ґ–∞–Ї –Є —Б–љ–Є—В—Б—П –µ–Љ—Г –µ–µ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ
–Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є, –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –љ–∞–і –і–Є–Ї–Є–Љ –љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –µ–ї–Њ–≤—Л–Љ
–ї–µ—Б–Њ–Љ, –љ–∞–і –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–Љ –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–Є—Б—В–Њ–Љ –≤ –±–µ–ї–Њ–є –њ–∞—А—Г—Б–Є–љ–Њ–≤–Њ–є —И–ї—П–њ–µ.
81

–£–ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ–ї—М–Ї–∞–ї–Є –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Л —Б –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–±—Л—В—Л–Љ–Є
–і–∞—З–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —Г–ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л –≤—Л–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А,
–њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Ј–∞—Б–њ–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –њ–Њ–і —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–µ —В–µ–њ–ї–Њ –Є —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П,
–Ї–∞–Ї —Б—Г–µ—В–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–Є—В–∞–љ–∞, —Г–ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤
–Њ—В—Е–Њ–ґ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –∞ —В—А–Њ–µ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б–њ–∞–ї–Є –≤ –љ–∞–≥–ї—Г—Е–Њ –Ј–∞—И—В–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ
–і—Г—И–љ–Њ–Љ –Ї—Г–њ–µ. –Р–њ—А–µ–ї–µ–≤–Ї–∞, –Т–љ—Г–Ї–Њ–≤–Њ, –Я–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–Є–љ–Њ, - —Б —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ
–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –≤–∞–≥–Њ–љ—Г. –°–Ї–Њ—А—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–±—Л–≤–∞–ї
–≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —А–Њ–і–Є–љ—Л. –£–ґ–µ –Ј–∞–Є–≥—А–∞–ї–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, —Г–ґ–µ –і–Є–Ї—В–Њ—А —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ
–њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї –≥–Њ—Б—В–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л —Б —П—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–≥–Њ–ґ–Є–Љ —Г—В—А–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј
–±–ї–µ—Б–љ—Г–ї –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–є —И–њ–Є–ї—М —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –≤–і—А—Г–≥ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є,
–њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В, –Љ–µ—А–Ј–Ї–Є–є, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –њ–Њ —Б—В–µ–Ї–ї—Г,
—Г–і–∞—А–Є–ї –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ—В–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —В—А—П—Е–љ—Г–ї–Њ, –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ
—Б–ї–∞–±–Њ, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г—А—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї–Є–њ—П—В–Ї–Њ–Љ
—Б—В–∞–Ї–∞–љ—Л –≤ –∞–ґ—Г—А–љ—Л—Е –љ–µ—А–ґ–∞–≤–µ—О—Й–Є—Е –ї–∞—В–∞—Е –Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е, –Ї—В–Њ –љ–µ
—Г—Б–њ–µ–ї –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–ґ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г, —Б –≤–Є–Ј–≥–Њ–Љ, —Б
—В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В–µ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–ї—Г–њ—Л–µ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л
–±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Њ–±–Њ–≥–љ–∞—В—М —Г–ґ–µ –Ј–∞–і—Л–Љ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Ї–Є–њ—П—Й–Є–Љ
—В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г.
–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—З–Ї–∞ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—В–Њ—А–љ–Њ —Г—Ж–µ–њ–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ—М,
–≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —Г–і–∞—А –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–∞–≥–Њ–љ –Ј–∞–µ—А–Ј–∞–ї –њ–Њ –±–µ—В–Њ–љ–љ—Л–Љ —И–њ–∞–ї–∞–Љ,
–Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П. –Э–Є—З–µ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–≤ - –∞ –≤–∞–≥–Њ–љ —Г–ґ–µ —О–Ј–Њ–Љ —И–µ–ї
–њ–Њ –љ–∞—Б—Л–њ–Є - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤—Л—Е–≤–∞—В–Є–ї –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є —Г–њ–µ—А—Б—П –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–µ
—Б–Є–і–µ–љ—М–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–ї—Б—П –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ. –Ъ—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ
–≤—Б—В—А—П—Е–љ—Г–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Є —Б –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ –љ–µ—Г–њ—А—Г–≥–Є–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж
–Ј–∞–Љ–µ—А–ї–Њ. –Я–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–Є–Ї–Є, —Б —А—Г–≥–∞–љ—М—О, —Б –Ј–∞–≤—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —Б
—А–µ–≤–Њ–Љ. –Ъ—В–Њ-—В–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –і–µ—А–љ—Г–ї —И—В–Њ—А—Г, –Є —Б—В–∞–ї–Њ —Б–≤–µ—В–ї–Њ. –Ч–∞ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–Є–ї–Њ—Б—М
—А—Л–ґ–µ–µ –Љ–∞—А–µ–≤–Њ –њ—Л–ї–Є —Б –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Ї–∞–Љ–Є –і—Л–Љ–∞. –Т–±–ї–Є–Ј–Є, –≤–љ–Є–Ј—Г, –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї
–≤–∞–≥–Њ–љ–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–є –њ—Г—В—М. –Р–≤–∞—А–Є—П, –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ –≤ –Љ–Њ–Ј–≥—Г
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Ю–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤–≤–µ—А—Е. –Ґ–∞–Љ –≤ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–є –њ–Њ–Ј–µ –Ј–∞—Б—В—Л–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–І—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ - –Њ–љ –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞–ґ–Є–≤–Њ
–≤—А–Њ—Б –≤ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ. –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ —В–Њ–ґ–µ —Г–њ–µ—А—Б—П –≤ –Њ–Ї–љ–Њ, –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –љ–∞–ї–µ–≤–Њ.
–Ю–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —Б–Њ—З–љ–Њ–µ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–∞–њ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–Њ–ї–µ
–Ј—А–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ, —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ —И—Г–Љ–∞, –њ–∞–љ–Є–Ї–Є,
—Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л. –Ю–љ–Њ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤–і–∞–ї—М,
—А–∞—Б—В–≤–Њ—А—П—П—Б—М –≤ –Ї–ї—Г–±–∞—Е –і—Л–Љ–∞, –љ–Њ –Є –Ј–і–µ—Б—М, –≤–±–ї–Є–Ј–Є, –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ
—А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ
—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї, –≤ —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ, –≤
–њ–Њ–ї–љ–µ–±–∞, –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥—Г. –Ґ–∞–Ї –Љ—Г—И–Ї–∞ –љ–∞ —Б—В–µ–Ї–ї–µ –±–µ–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е
–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ –Ј–≤–µ—А–µ–Љ. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Б—Б–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М,
–љ–∞–њ—А—П—З—М –≥–ї–∞–Ј–∞, —В–Њ –Љ—Г—И–Ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—Б—П –≤ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–µ, –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–µ,
–±–µ–Ј–Њ–±–Є–і–љ–Њ–µ. –Э—Г–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М. –Т–±–ї–Є–Ј–Є, –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ —Б—В–µ–Ї–ї–µ
–њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–ї–Њ–Ї–љ–Є—Б—В–Њ–µ —В–µ–ї–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–ї–µ–µ–љ–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б—А–µ–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–ї–Є
–љ–∞–і–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–µ. –Ґ–µ–ї–Њ —Б–Њ—З–Є–ї–Њ—Б—М –±–µ–ї—Л–Љ –Љ–Њ–ї–Њ—З–Ї–Њ–Љ, –Є –Њ–љ–Њ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –≤—П–Ј–Ї–Њ —Б—В–µ–Ї–∞–ї–Њ
–≤–љ–Є–Ј, –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—П –љ–∞ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В–µ–Ї–ї–µ –і–≤–µ –љ–µ—А–Њ–≤–љ—Л—Е –±–Њ—А–Њ–Ј–і–Ї–Є. –°–±–Њ–Ї—Г, –≤–≤–µ—А—Е,
–њ–Њ—З—В–Є –≤ –Ј–µ–љ–Є—В –Є–Ј —В–µ–ї–∞ —В–Њ—А—З–∞–ї –Њ—Б—В—А—Л–є –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є —И–Є–њ. –Э–∞–і —Г—Е–Њ–Љ —З—В–Њ-—В–Њ —Е—А–Є–њ–ї–Њ
–Ј–∞—И—Г–Љ–µ–ї–Њ. –≠—В–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П —Б—В–∞—А–Є–Ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, –Њ–љ –њ–Њ–і—Б–ї–µ–њ–Њ–≤–∞—В–Њ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –≤
–Њ–Ї–љ–Њ. –Ю–љ –ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞–ї –Ј–∞–≥–∞–і–Ї—Г, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ј–љ–∞–ї –Њ—В–≤–µ—В, –≤–Њ—В –Є
–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї.
-–Ъ–∞–Ї—В—Г—Б—Л, - –≤—Л–і–Њ—Е–љ—Г–ї –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З.
–Ч–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –і–µ—А–љ—Г–ї–Є —А—Г—З–Ї—Г –і–≤–µ—А–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≥—Г–ї–Ї–Њ –Ј–∞—Б—В—Г—З–∞–ї–Є –Є –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї–Є:
-–Ґ–Є–Ї–∞–є—В—Н, –ї—О–і—Л. –Я–Њ–ґ–µ–ґ–∞!
–Ю–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –і–≤–µ—А–Є. –С–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –і–≤–µ—А—М –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–Є–ї–Њ. –Ш–Ј
—Й–µ–ї–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї–Ј –µ–і–Ї–Є–є –Њ—В—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –і—Л–Љ. –У–Њ—А–µ–ї–∞ –≥—Н–і—Н—Н—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П
–њ–ї–∞—Б—В–Љ–∞—Б—Б–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –і–Њ—Б—В–∞–ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–ї –≤—Б—О –Њ–±–Њ–є–Љ—Г –≤
—Б—В–µ–Ї–ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В, —А–∞—Б–Ї–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е –Є —Г–і–∞—А–Є–ї –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤
–Њ–Ї–љ–Њ. –° —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Љ, –њ–Њ–і –і–Є–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є —З–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞—И–µ–ї—М
–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞—А—Г–ґ—Г –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є, –Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ –≥–∞–Ј—Л –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї—Г–њ–µ. –Я–Њ–і
–љ–∞–ґ–Є–Љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤—Л–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Х–і–≤–∞ –Њ—З—Г—В–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ,
–Њ–љ —А–∞—Б–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї —А—Г–Ї–Є –≤–≤–µ—А—Е. –Ю—В—В—Г–і–∞, –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞, —Г–ґ–µ –≤–∞–ї–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є
—Г–≥–∞—А–љ—Л–є –≥–∞–Ј. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–Њ–≥–Є, –Є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ
–њ–Њ—А–µ–Ј–∞—В—М –Њ–± –Њ—Б—В—А—Л–µ –Ї—А–∞—П, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А–∞. –°–µ–є—З–∞—Б
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –љ–∞ —А—Г–Ї–µ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є –њ–Њ–і—В–µ–Ї –Є —В—Г—В –ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї, —З—В–Њ
—Б–∞–Љ –њ–Њ—А–µ–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–± –Њ—Б—В—А—Л–є –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є —И–Є–њ. –Ъ—А–∞–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞—Й—Г–њ–∞–ї –Є–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є
–Њ–±—К–µ–Ї—В –Є –Ј–∞–Љ–µ—А. –Ь–љ–Њ–≥–Њ—В–Њ–љ–љ—Л–є —Б—В–≤–Њ–ї –Ї–∞–Ї—В—Г—Б–∞, —Г–њ–Є—А–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ,
–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–њ–Њ–ї–Ј–∞–ї, –≥—А–Њ–Ј—П –љ–∞–≥–ї—Г—Е–Њ –Ј–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є—В—М —А–∞—Б—З–Є—Й–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М. –Ю–љ
–Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П. –Т–∞–≥–Њ–љ –≤—А–µ–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –≥—Г—Б—В—Г—О, –Ї–Њ–ї—О—З—Г—О, –љ–µ—Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б—А–µ–і–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є
–њ–Њ–ї–Њ—Б–µ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї—М. –І—В–Њ —В–∞–Љ –Ј–∞ –љ–µ–є, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –∞ —Б–Ј–∞–і–Є, –Є–Ј —В–∞–Љ–±—Г—А–∞, —Б
–Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л. –Я–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є - –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–µ—З–µ–Љ
–њ–Њ–і–њ–µ—А–µ—В—М –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ. –С—Л—Б—В—А–µ–µ - –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–І–µ–≥–Њ –Њ–љ —В–∞–Љ –Ї–Њ–њ–∞–µ—В—Б—П? –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, —Б—В—А–Њ–≥–Є–є, –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—Л–є. –Ю–љ
–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Г –љ–∞ –Ї–Є—В–Є–ї–µ.
-–Ш–і—Г, –Є–і—Г, - —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, –њ–Њ—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞—П –њ–Њ –≥—А—Г–і–Є, –≥–і–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞
–Ї–∞—А—В–∞.
–Я–ї–∞–Љ—П –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –≤–µ—Б—М –≤–∞–≥–Њ–љ. –†–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А–∞–љ–ґ–µ–≤—Л–µ –Њ–±—К–µ–Љ—Л –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞,
–њ–Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –∞—А—Е–Є–Љ–µ–і–Њ–≤–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є, —Б–Њ —Б–≤–Є—Б—В–Њ–Љ —Г–ї–µ—В–∞–ї–Є –≤ –љ–µ–±–Њ. –° –Ї—А—Л—И–Є, –Є–Ј
—Й–µ–ї–µ–є –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ—Б—М —З–µ—А–љ–Њ–µ, —Б –ї–Њ—Е–Љ–Њ—В—М—П–Љ–Є —Б–∞–ґ–Є,
–Њ–±–ї–∞–Ї–Њ –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Њ —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Ґ–∞–Љ, –≤–≤–µ—А—Е—Г, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є
–њ–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–µ –њ—В–Є—Ж—Л, –Ї—А—Г–ґ–∞ –љ–∞–і –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Ї—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї—В—Г—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞, —В–Њ –Є
–і–µ–ї–Њ —З–Є—А–Ї–∞—П –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞. –Я–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л –Њ—В–±–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –≤ –њ–Њ–ї–µ –Є
—Б –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –і–Њ–≥–Њ—А–∞–µ—В –Є—Е –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї—М–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В
–±—Л—В—М, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ –Ј–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г, –њ–Њ–Ї–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –ї–µ—В–µ–ї –≤–љ–Є–Ј, –љ–∞
—Й–µ–±–µ–љ–Ї—Г, –љ–Њ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ј–∞—Б—В—Л–ї–Њ, –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ
–Ј–∞–≤–Є—Б, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–µ –±—А–µ–≤–љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –љ–µ–Њ—В–≤—А–∞—В–Є–Љ–Њ –Њ–±–≥–Њ–љ—П–µ—В –µ–≥–Њ
–ґ–Є–≤–Њ–µ —В–µ–ї–Њ.
-–Ю—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –≤–±—Л–ї–Њ! - –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ —Б–Ј–∞–і–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Г.
–Ґ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї–µ—В–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ –Є —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ, –њ—А–Є–Ї–Њ–ї–Њ—В—Л–є,
—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞—Б—Г—И–µ–љ–љ–∞—П –±–∞–±–Њ—З–Ї–∞, –Њ—Б—В—А–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є –±—Г–ї–∞–≤–Ї–Њ–є. –Э–∞–і –љ–Є–Љ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Є –І–Љ—А–≤—П–Ї–Є–љ, –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї–Є –µ—Й–µ –ї—О–і–Є. –Я–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В–ї–µ–њ–Є—В—М
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞, –Ї—В–Њ-—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–љ—П–ї —А—Г–±–∞—Е—Г, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–∞—В—М –Ї–Њ–ї–Њ—В—Г—О
—А–∞–љ—Г. –Ш —В—Г—В —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л–є –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї:
-–Э–µ –љ–∞–і–Њ.
–Ч–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –Ј–љ–∞–Ї, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –љ–∞–≥–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ, –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г
–Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞, –Є —А–∞—Б—Б–ї—Л—И–∞–ї:
-–Т—Б–µ —В–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П, - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ, –љ–∞–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М —Б–Є–ї, —Б–≥–ї–Њ—В–љ—Г–ї —З—В–Њ-—В–Њ
–Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї: - –С—Л–ї–Њ —В—А–Њ–µ, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В—Л –Њ–і–Є–љ, –°–µ—А–≥–µ–є... –Я–µ—В—А... –Я–Њ—В–Њ–Љ... -
–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ј–∞–њ–љ—Г–ї—Б—П, - –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—И—М –Ї–∞—А—В—Г, –Ј–і–µ—Б—М, - –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞
–≥—А—Г–і—М. - –Э–µ –≥—А—Г—Б—В–Є —Б—В–∞—А–Є–Ї, –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—И–љ–Њ... –Є –љ–µ–±–∞ –љ–µ—В
—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П - —З—В–Њ-—В–Њ –µ—Й–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В. –Ю–љ –њ—А–Є–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П
–њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ. –•–Њ—В–µ–ї —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
-–С–Њ–ї—М–љ–Њ?
–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г—В—М—Б—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –ґ–∞–ї–Ї–Њ –Є –Ї—А–Є–≤–Њ.
-–Ґ–∞–љ–µ... –Ґ–∞–љ–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є –њ—А–Њ —Н—В–Њ... –°–Ї–∞–ґ–Є, –±—Л–ї–∞ –љ–Њ—З—М, —З–µ—А–љ–Њ–µ
–љ–µ–±–Њ –Є —В–Њ–њ–Њ–ї—П... –Ч–љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞–Ї —И—Г–Љ—П—В –љ–Њ—З—М—О —В–Њ–њ–Њ–ї—П? –Ґ—Л –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М... –Ш –Њ–љ–∞
–Ј–љ–∞–µ—В, —П –µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї.
–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞–ї –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ч–∞–њ—А–Є—З–Є—В–∞–ї–∞
–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞:
-–Р, —И–Њ–± –Є—Е, –Љ–Њ—Б–Ї–∞–ї–µ–є, –Ј –Є—Е–љ–Є–Љ—Л –Ї–∞–Ї—В—Г—Б–∞–Љ—Л...
-–Ґ–Є—И–µ, - —И–Є–Ї–љ—Г–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
–Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –±–µ—Б—И—Г–Љ–љ–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї. –С–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –Є —В–∞–Ї –≤—Б–µ
–Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≥—Г–і–µ–љ–Є–µ, –≥–Њ—А—П—З–µ–µ –Є —Г–і—Г—И–ї–Є–≤–Њ–µ, —В—А—П—Б–ї–Њ—Б—М –Є
–≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ, –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П —Г—И–Є. –Ф—Л—И–∞—В—М —Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ–≤–Љ–Њ–≥–Њ—В—Г, –ї—О–і–Є –њ–Њ–њ—П—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і,
–≤ –њ—Л–ї—М–љ—Л–є, –Ј–∞–≥–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Љ—Г—Б–Њ—А–Њ–Љ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї.
-–Я–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –≤–і—А—Г–≥ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. - –Я–Њ–Љ–љ–Є—И—М, —В–Њ–≥–і–∞, –≤
–љ–Њ—П–±—А–µ, —П –ґ–µ–ї–∞–ї —Г–±–Є—В—М —В–µ–±—П? –ѓ –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П... –°–Ї–∞–ґ–Є, —В—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї
–≤–Ј—П—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ? - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ј–∞—Б—В–Њ–љ–∞–ї –Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б—В–Њ–љ –і–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї: - –І—В–Њ–±—Л —П
–њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П, –і–∞?
-–Ф–∞, - –≤—Л–і–∞–≤–Є–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
-–Ф—Г—А–∞–Ї, - –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ. - –†–∞–Ј–≤–µ –±—Л —П —Б–Љ–Њ–≥?
–Ч–∞–Ї–∞—И–ї—П–ї—Б—П, –Ј–∞—В—А—П—Б—Б—П, —Б–Ї—А–Є–≤–Є–ї—Б—П –Њ—В —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є, –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ–ї–Є –Є
–Ј–∞–Љ–µ—А. –Т—Б–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –љ–∞–≥–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞–і –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —А–∞—Б—Б—В–µ–≥–љ—Г–ї
–Ї–Є—В–µ–ї—М –Є –і–Њ—Б—В–∞–ї —Б–≤–µ—А—В–Њ–Ї. –°–њ—Г—Б—В—П –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤–≤–µ—А—Е—Г —З—В–Њ-—В–Њ –ї–Њ–њ–љ—Г–ї–Њ, —Б–љ–Њ–≤–∞
–љ–∞ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Г—О –≥–ї–Є–љ–Є—Б—В—Г—О –њ–Њ—З–≤—Г –њ–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є, –Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –њ—Л–ї–∞—О—Й–Є–є —И–∞—А
–љ–∞–Ї—А—Л–ї –Љ–µ—А—В–≤–Њ–µ —В–µ–ї–Њ. –С—Л–≤—И–Є–є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –µ–і–≤–∞ —Г—Б–њ–µ–ї —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М
–І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ –Є –Њ—В—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –љ–∞–Ј–∞–і. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –≥–Њ—А–µ–ї–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≤–∞–≥–Њ–љ–∞. –У—А–∞–≤–Є–є,
–±–µ—В–Њ–љ–љ—Л–µ —И–њ–∞–ї—Л, —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—П –≥–ї–Є–љ–∞, –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–є
–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ - –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –ґ–∞—А–Ї–Є–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї—В–Њ-—В–Њ
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є, —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є–є –≥–Њ—А–µ, –Ј–∞–Љ–µ—В–∞–ї —Б–ї–µ–і—Л –Є –≤ —Б–њ–µ—И–Ї–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї –≤—Б–µ,
—З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Љ–љ—Л–µ —З–µ—А–љ—Л–µ –њ—В–Є—Ж—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ–Њ –Ї—А—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞–і –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ
–Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л, —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Њ—З–Є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–ї—З—М–Є —П–≥–Њ–і—Л,
–≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М, –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≥–і–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–ї–µ, –љ–Њ –µ—Й–µ –Є –љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і,
–њ–Њ —Е–Њ–ї–Љ–∞–Љ –Є –Њ–≤—А–∞–≥–∞–Љ, –ї–µ–ґ–∞–ї –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є,
–љ–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ—Б—В. –°–≤–µ—А—Е—Г, —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л –њ—В–Є—З—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ—В–∞
–±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≤ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—О—З–µ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –≤—А–µ–Ј–∞–ї—Б—П
–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, —Е—А—Г—Б—В–љ—Г–ї, –Њ–±–ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≥–і–µ-—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ.
–Ю–і–љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М —Б—В–Њ—П—В—М —Г —Б—В–µ–љ—Л, –∞ –њ–µ—А–µ–і–љ—П—П, –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–∞—П,
–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П —Г–ґ–µ –Є –і–Њ–≥–Њ—А–∞–ї–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є
—Ж–µ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —З–µ—А—В—Г. –°–њ—А–∞–≤–∞, –µ—Б–ї–Є –ї–µ—В–µ—В—М
–Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞, –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –њ—А—П–Љ–Њ–є —Б–µ—А–µ–±—А–Є—Б—В–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Њ–є –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ
—З–µ—В—Л—А–µ—Е—А—П–і–љ–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ. –Я–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —И–Њ—Б—Б–µ, —А–∞–Ј–≥–Њ–љ—П—П
–ї–Є—З–љ—Л–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В, —Г–ґ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л –Ї–∞—А–µ—В—Л —Б–Ї–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є,
–Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є - –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —Б —Б–Є—А–µ–љ–Њ–є, —Б —П—А–Ї–Є–Љ–Є, —З–µ—А–љ–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞,
–Љ–∞—П–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Ј–і–µ—Б—М, —Г –Ї—А–µ—Б—В–∞, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ
–Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л –Є–Ј –≤–µ—В—Е–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ. –Я–Њ –Њ—А–∞–љ–ґ–µ–≤–Њ–є —Б
—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—П—В–љ–∞–Љ–Є –±–µ–Ј—А—Г–Ї–∞–≤–Ї–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –µ–µ
–Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—М - –њ—Г—В–µ–є—Б–Ї–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є, –Њ–±—Е–Њ–і—З–Є–Ї –Є–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б—В—А–µ–ї–Њ—З–љ–Є–Ї.
–Я—А–∞–≤–і–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–ґ–Ї–∞ –Њ–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї —В–Њ–њ–Њ—А —Б –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —А—Г—З–Ї–Њ–є,
–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–µ–Ї–Є—А—Г. –Ч–∞–њ–ї—Л–≤—И–µ–µ, –≤ —Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ–є —Й–µ—В–Є–љ–µ –ї–Є—Ж–Њ –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ
—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –∞ –≤—З–µ—А–∞ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞
–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ–Є–ї. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –њ—Г—В–µ–µ—Ж —Г–ґ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –љ–µ
—Б–Њ–љ, –∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –∞–≤–∞—А–Є—П, –Є –Ј–∞—Б—В—Л–ї, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –µ–≥–Њ —Г–і–∞—А–Є–ї –њ–∞—А–∞–ї–Є—З. –Я–Њ—В–Њ–Љ
–Љ–Њ—В–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–і–Є–≤–ї—П—П—Б—М, –≤—Л–љ—Г–ї –Є–Ј –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–Ї–Њ–ї–Њ—В—Л–є –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є
—И–Є–њ –Є —Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ї–Њ–≤—Л—А—П—В—М –Є–Љ –≤ –Ј—Г–±–∞—Е. –Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–µ,
—Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, –Њ—В
–µ–≥–Њ –љ–µ–њ—Г—В–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є —Б –±–µ–і–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Г—Б–∞–і–µ–±–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ
—Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤—Л–Љ —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ —Ж–≤–µ–ї–∞ –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–∞. –Я—Г—В–µ–є—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ
–≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –≥–Њ—А—П—Й–Є–µ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л, –љ–∞ —И—Г–Љ–љ—Г—О, –Њ—Е–∞—О—Й—Г—О —В–Њ–ї–њ—Г –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ
—Б–љ—Г—О—Й–Є—Е, —Б—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤, –љ–∞ –і–≤—Г—Е –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е, —И–µ–і—И–Є—Е
–Ї –љ–µ–Љ—Г —З–µ—А–µ–Ј –≥–ї–Є–љ–Є—Б—В—Л–є –њ—Г—Б—В—Л—А—М. –Т–µ—А–љ–µ–µ, —И–µ–ї –Њ–і–Є–љ, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–∞
–Ј–∞–Ї–Њ—А–Ї–∞—Е –њ–Њ–≤–Є—Б —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ—Й–∞–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ –Ј–ї—Л–Љ–Є
–Ї–Њ–ї—О—З–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, –њ—А–Њ—И–µ–ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–Њ—И–µ–є –Љ–Є–Љ–Њ
–њ—Г—В–µ–є—Ж–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–ї –љ–Њ–≥–Њ–є –і–≤–µ—А—М –Є —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ –Ї–∞–Љ–Њ—А–Ї–µ. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ–љ
–њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–і–Є–љ, –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –њ—Г—В–µ–є—Ж—Г –Є, –≥–ї—П–і—П —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ
–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї:
-–Т—Л–Ј–Њ–≤–Є—В–µ —Б–Ї–Њ—А—Г—О.
–Я—Г—В–µ–µ—Ж —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ —Ж—Л–Ї–љ—Г–ї –Ј—Г–±–Њ–Љ, –Є—Б–њ—Л—В—Г—О—Й–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –≥–Њ—Б—В—П, –Є –Ї–∞–Ї
–±—Л –і–µ–ї–∞—П –Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ, –±—А–Њ—Б–Є–ї:
-–Ш —Б–Ї–Њ—А—Г—О, –Є –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Г—О, –Є –Њ—А–≥–∞–љ—Л - –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї.
-–°—В—А–µ–ї–Њ—З–љ–Є–Ї? - –њ–Њ—З—В–Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ–≥–∞–і–Ї–µ, –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї
–Ј–ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ.
-–Ы–µ—Б–Њ—А—Г–±-–њ—Г—В–µ–µ—Ж, - –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞–≥–ї–Њ —Г—Е–Љ—Л–ї—М–љ—Г–ї—Б—П –Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї: -
—И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —В–Њ–њ–Њ—А, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г,
–њ—Л—В–∞—П—Б—М –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Ї–∞–Ї—В—Г—Б–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞—А–Њ—Б–ї–µ–є, —Г—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї
–і–Њ—А–Њ–≥–Є –≤ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –Ґ–∞–Љ, –≤–і–∞–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤
–њ–Њ–ї—Г–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ –Њ—В—Б—О–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —И–Њ—Б—Б–µ, –≥–і–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —П—А–Ї–Є–µ –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є
–∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л.
-–Ф–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ?
-–Ґ–∞–Ї –Ј–і–µ—Б—М –Є –µ—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і, - –њ—Г—В–µ–µ—Ж —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П. - –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Љ—Л —Г–ґ–µ,
–њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є. –Ь–∞-–∞-—Б–Ї–≤–∞, —В–∞–≤–∞—А–Є—Й.
82
–£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —П—Б–љ–Њ—Б—В—М, —З–µ—В–Ї–∞—П, –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–∞—П, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞
–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –°–µ—А–≥–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞. –Я–Њ–і –≤–Њ–є —Б–Є—А–µ–љ, –њ–Њ–і —А–µ–≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л—Е
–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е
–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Њ–љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–Њ—А–Є–Ї —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є –Ј–∞ –Њ–≥—А–∞–і—Г, –љ–∞
–Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –≥–ї–Є–љ–Є—Б—В–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Т–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–Ї, –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ
—Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Є –њ–Њ–љ—П–ї: –±—Г–і–µ—В –ґ–∞—А–∞. –С—Г–і–µ—В –њ–µ–Ї–ї–Њ, –љ–Њ –љ–µ —В—П–≥—Г—З–µ–µ –Є –њ—А–Є—В–Њ—А–љ–Њ–µ, –∞
–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–µ, –±–Њ–і—А—П—Й–µ–µ, —Б –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б–≤–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞–Љ–Є. –Т–і–∞–ї–Є
—Б–њ—А–∞–≤–∞, –Ї–∞–Ї –≥–µ–Њ–і–µ–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞–Ї, —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї —И–њ–Є–ї—М —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –ї–µ–≤–µ–µ, –љ–∞
—Н—В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –°–µ—В—Г–љ–Є, –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї—Б—П —А–ґ–∞–≤—Л–є —Б–Ї–µ–ї–µ—В –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г
–љ–Є–Љ–Є - –љ–Є–Ј–Ї–Њ–µ –љ–µ–ґ–Є–ї–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ—А–Њ—Б—И–µ–µ —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —В–Њ —В–∞–Љ –ґ–Є–і–Ї–Є–Љ
–Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є–Ј—А–µ–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–Є–≤—Л–Љ —А–µ—З–љ—Л–Љ —А—Г—Б–ї–Њ–Љ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ—Г–ґ–љ–Њ
–њ—А–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, —З—Г—В—М –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—П –њ—А–Њ–≥—А–µ—В—Л–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–Љ
–њ–µ–Ї–ї–Њ–Љ –ї–Њ–±, - –≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Г–Ј–љ–∞—В—М. –Я–Њ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞–Љ, –њ–Њ —Д–Њ—В–Њ—А–Њ–±–Њ—В–∞–Љ,
–њ—А–Є–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Б—В–µ–Ї–ї–∞—Е —Г –Ї–∞—Б—Б, –љ–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞—Е –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–∞—Е
–Є –≤—Л—Е–Њ–і–∞—Е, –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞—Е, —В–Њ–љ–љ–µ–ї—П—Е, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞—Е. –С—Л—Б—В—А—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ, –љ–Њ –±–µ–Ј —Б—Г–µ—В—Л,
–Њ–љ –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г. –Т—Б–µ —П—Б–љ–Њ. –Ы–Є–±–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П,
–ї–Є–±–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ю–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ, –Њ–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —В–Њ, —З—В–Њ –µ—Й–µ –≤—З–µ—А–∞
—А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ, —Б –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї, —Б
—Г—Б–Љ–µ—И–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤ —И—Г—В–Ї—Г. –Ъ–∞–Ї–Є–µ —Г–ґ —В—Г—В —И—Г—В–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —Б —Г—В—А–∞ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞, –Є
–Њ–±—Л—З–љ—Л–є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –≤—А–µ–Ј–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–∞–Ї—В—Г—Б–Њ–≤—Л–є –ї–µ—Б, –µ—Б–ї–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ,
–≥–і–µ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞, —Г –њ—Г–ї—М—В–∞ —Б–≤—П–Ј–Є –≤–Є—Б–Є—В –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–∞—П —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П,
–µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї, –Њ—В —З–µ–њ—Г—Е–Є, –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В, –≥–Є–±–љ—Г—В –µ–≥–Њ
–Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є, - –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ! –Ф–Њ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–∞ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—Б–Њ—В –њ–Њ
–њ—А—П–Љ–Њ–є, –љ–Њ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В. –Э—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є—В—М —И–∞–≥—Г, –Є–љ–∞—З–µ —Г–і–∞—А–Є—В
–њ–µ—А–≤—Л–є –ї–Є–≤–µ–љ—М, —А–∞–Ј–≤–µ–Ј–µ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—П –≥–ї–Є–љ–∞
—Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В —В—А–µ–љ–Є–µ, —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є.
–І—В–Њ –ґ–µ, –Њ–љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ, —В–µ–њ–µ—А—М —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –Є –Њ–љ. –Я—А–Њ–є—В–Є
–і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —Г–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П –≤ —Б—В–µ–љ—Г - —Н—В–Њ –ї–Є –љ–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥,
–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –°—В–µ–љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –Ї–∞–Ї
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –Є –ґ–Є–≤–µ—В - –≤–µ–і—М –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –±–µ–ї–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ—З–Ї–Њ –љ–∞
—Б—В–µ–Ї–ї–µ, - –Ї–Њ–ї—О—З–µ–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞, —В—А–Њ–њ–Є–љ–Ї–∞
—Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Л–≤–µ–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Ч–∞–њ–∞—Е–ї–Њ —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Л–Љ —З–µ—А–љ—Л–Љ –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ, –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –Є
–Њ—В–±—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —Б –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–≤. –Ю–љ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–љ–∞–≤–Ї—Г,
–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Г—О –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є–Љ –і–Њ–ґ–і–µ–Љ, –Є —Б–њ–Њ—В—Л–Ї–∞—П—Б—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П
—Б—З–Є—В–∞—В—М —И–њ–∞–ї—Л.
–Я–Њ–Ј–∞–і–Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞ –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤—Б–Ї–∞—П. –Ю–љ –µ–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –љ–Њ
–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±–Њ—И–µ–ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –ґ–∞—А–Є–ї–Њ –≤ –њ—А–∞–≤—Л–є –≤–Є—Б–Њ–Ї –Є
–і—Г–Љ–∞—В—М —Б—В–∞–ї–Њ –µ—Й–µ –ї–µ–≥—З–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П - –Є–і—В–Є
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М. –Ю—В—В—Г–і–∞, —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ–≤–Њ–є, –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–Њ–і–∞–і—Г—В –љ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ.
–Ь–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ —З–∞—Б–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј —И–µ—Б—В—М. –Ю–љ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П. –Ю–љ –≤—Л–±—А–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –њ—Г—В—М.
–Ч–і–µ—Б—М –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ. –Ґ–Њ—В –њ—Г—В—М –Ї–Њ—А–Њ—З–µ, –љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М
—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–µ–µ. –Ы–Є—И—М –±—Л —Г—Б–њ–µ—В—М –і–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–ґ–і—П. –Э–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —Б—Г—Е–Є–Љ
—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–Ј—А—П–і–Њ–Љ –Ј–≤–µ–љ—П—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Н—В–Њ –ґ–∞–≤–Њ—А–Њ–љ–Њ–Ї –Ј–≤–µ–љ–Є—В –≤
–Ј–µ–љ–Є—В–µ? –Ґ–∞–Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –±–µ–Ј–≤—А–µ–Љ–µ–љ—М–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞? –Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ
–≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є, —В–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ... –Э–µ—В, –љ–µ—В,
–≤—А–µ–Љ—П –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, –µ–≥–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –њ–Њ —И—Г—А—И–∞–љ–Є—О –≥—А–∞–≤–Є—П, –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М,
—Б–Њ—Б—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ —И–њ–∞–ї–∞–Љ, –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–±–∞–Љ. –®–њ–∞–ї—Л - —Н—В–Њ –µ–≥–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л, —Б—В–Њ–ї–±—Л -
–Љ–Є–љ—Г—В—Л, —З–∞—Б—Л... –І–∞—Б—Л? –Р, —З–µ—А—В —Б –љ–Є–Љ–Є, —Б —З–∞—Б–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–Є–∞—В.
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Н—В–Њ –љ–µ –Ї–≤–∞–і—А–Є–ї—М–Њ–љ, –љ–Њ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е,
–≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–µ—И–µ–є —Е–Њ–і—М–±—Л –њ–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—Е–ї–µ—Й–µ
–Ї–≤–∞–і—А–Є–ї—М–Њ–љ–∞. –Т–µ–і—М –Њ–љ —Б–∞–Љ –≤—Л–±—А–∞–ї —Н—В–Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ —А–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—П –≤ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–Ї–Њ—П—Е. –Ю–љ –њ–Њ—З—В–Є –≥–µ—А–Њ–є. –Я–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ
—Б–∞–Љ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В –±–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞—З–µ—В–Њ–≤ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–і–Є
–љ–µ–µ. –Ш —В–µ–њ–µ—А—М –Є–і–µ—В —А–∞–і–Є –љ–µ–µ, –і—Г–Љ–∞–µ—В - —А–∞–і–Є –Є—Б—В–Є–љ—Л, —А–∞–і–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П
—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –љ–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ-—В–Њ –і–µ–ї–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ
—А–∞–і–Є –љ–µ–µ. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л —П–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–µ–є —Н—В–∞–Ї–Є–Љ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ —З—Г–і–Є—Й–µ–Љ, –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –Є
—Б—Л–љ–Њ–Љ, –Є —Б–≤—П—В—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: —П –µ—Б–Љ—М –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М –њ—Г—Б—В–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–µ–є, –ї—О–±–Є –Љ–µ–љ—П. –Э–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї. –Я—А–Є—И–µ–ї
–Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ, —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –ґ–∞–ї–µ—В—М –Є
—Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –Є–і—В–Є —Б–µ–є—З–∞—Б
–њ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–±—П, –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є
–љ–Њ–≥–Є, –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ш –≤–Њ—В –Њ–љ —В–Њ–њ—З–µ—В—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б —Г –Љ–Њ—Б—В–∞, –≤—Л–±–Є—А–∞—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј
–і–≤—Г—Е –њ—Г—В–µ–є. –Ю–љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –∞–≤–∞—А–Є–µ–є –і–µ–ї–Њ –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П. –Ю–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ -
–±—Г–і—Г—В –µ—Й–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –љ–∞ —В–Њ –Њ–љ –Є –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –Ї–Њ–ї–µ–µ–є. –Т–љ–Є–Ј—Г –њ–Њ–і –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ —И—Г–Љ–µ–ї–∞
–Љ—Л–ї—М–љ–∞—П –°–µ—В—Г–љ—М, –Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Ч—А—П –µ–µ –≤–Њ–і–љ—Л–є —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В
–њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –≥—Г–і–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–ї—М—Б. –Х—Б–ї–Є –±—Л –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Б–Ј–∞–і–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П
–њ–Њ–µ–Ј–і, —В–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –њ—Г—В—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ, –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є
–Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л. –Э–Њ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞ –±—Л–ї–∞, –Њ–љ —Б–∞–Љ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Л–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Ј
–≥–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Њ–±–µ–Ј—Г–Љ–µ–≤—И–Є–µ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л. –Ш –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ –≤—Б–µ –±–µ–≥–∞–ї–∞ –≤–і–Њ–ї—М
–≤–∞–≥–Њ–љ–∞ –Є –Ї—А–Є—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ —З–µ—А—В–Њ–≤—Л –Ї–∞–Ї—В—Г—Б—Л. –Т–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–∞
–і–∞–≤–љ–Њ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–ї–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–µ–Ј–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–µ—Б–Њ—А—Г–±–Њ–≤.
–У–і–µ-—В–Њ –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Љ–Њ—Б—В–∞ –Ј–∞–≥—Г–і–µ–ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–Њ—А—Л,
–Ј–∞–≤–Є–±—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї –њ–µ—А–µ–ї–µ—В. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Њ–њ—П—В—М —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П -
—З–µ—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Љ–Є—А. –Э–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г, —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї
–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л–є –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є –Є –≥–Њ–ї—Г–±—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Њ–≤—Л–є —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Њ–Ј. –Ь–∞—И–Є–љ–Є—Б—В
–≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –Ї–∞–±–Є–љ—Л –Є —З—В–Њ-—В–Њ –Ї—А–Є—З–Є—В –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і—Г. –Ґ–Њ–ґ–µ –Ј—А—П. –Ґ–Њ—В –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В,
–Є–і–µ—В –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ. –Э–µ—В, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ
–Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є, –Љ–Њ–ї, –і–∞–≤–∞–є, –ґ–Љ–Є –і–∞–ї—М—И–µ, —А–∞–Ј–≥—А–µ–±–∞—В—М —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–µ –Ј–∞—В–Њ—А—Л.
–Т—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Ь–Њ—Б—В –Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П, —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —В—А–Њ–њ–Є–љ–Ї–∞, –њ–Њ–≤–Є–ї—П–ї–∞
—Б—В–Њ–њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ —А—Г—Б–ї–Њ–Љ –Є —О—А–Ї–љ—Г–ї–∞ –≤–љ–Є–Ј —Б –љ–∞—Б—Л–њ–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ї—Г—Б—В—Л, –љ–∞–Є—Б–Ї–Њ—Б–Њ–Ї, –Ї
–Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Г. –Ю—В—Б—О–і–∞ —Г–ґ–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–∞—И–љ–Є
–≤—Л—Б–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞–Љ —Б–µ—А–Њ–є —В–µ–љ—М—О –ї–µ—В–µ–≤—И–µ–є —Б —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–∞
—В—Г—З–Є. –£–ґ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤—Л–µ —А–∞—Б–Ї–∞—В—Л. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–ї—Б—П, –њ—Л—В–∞—П—М
—А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —В–µ—А–Љ–Њ–Љ–µ—В—А–∞. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ, –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –Э—Г –Є –њ—Г—Б—В—М, –Њ–љ
–Ј–љ–∞–µ—В –Є —В–∞–Ї. –Т—Б–µ –Є–і–µ—В –њ–Њ –њ–ї–∞–љ—Г. –°–µ–є—З–∞—Б –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ј–≤–µ–љ—П—Й–µ–≥–Њ,
–љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ, —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤–Њ—А–≤–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞ –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–µ–є—Б—П –±—Г—А–Є.
–Ґ—Г—З–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —В—А–µ—Е—Б–ї–Њ–є–љ–Њ–є. –Т–≤–µ—А—Е—Г —Б—В–µ—А–Є–ї—М–љ—Л–µ –±–µ–ї—Л–µ –Ї–ї—Г–±–љ–Є,
–Љ–∞–љ—П—Й–Є–µ, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ, –љ–Є–ґ–µ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–∞—П –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–µ—А—В—М: –њ–µ—А—М—П, –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞,
—Б–њ–Є—А–∞–ї–Є –≤–µ—А—В–µ–ї–Є—Б—М, –Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М, —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—П—Б—М –Є —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞—П—Б—М, –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П
—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞ —В–µ–Љ–љ–Њ–µ —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤–Њ–µ –і–љ–Є—Й–µ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ —Е–ї–µ—Б—В–∞–ї–Њ
–Ї–Њ—Б—Л–Љ–Є —Г–њ—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б—В—А—Г—П–Љ–Є. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–µ–±—П —З—Г–і–Є—Й–µ –≥–љ–∞–ї–Њ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—В–µ–љ—Г
–њ—Л–ї–Є –Є –Љ—Г—Б–Њ—А–∞, —Б–і–Њ–±—А–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј—О–Љ–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—Е–∞. –Э–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –µ–є —Б
–±–∞—И–µ–љ –Є —Б—В–Њ–ї–±–Њ–≤ –≤–Ј–ї–µ—В–∞–ї–Є —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–µ —З–µ—А–љ—Л–µ –њ—В–Є—Ж—Л –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М
–њ–Њ–ї–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ.
–Т—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ–љ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї. –®–∞–≥–∞—Е –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Њ—В —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–∞
–µ–≥–Њ –љ–∞–Ї—А—Л–ї–Њ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —З—Г—В—М –љ–µ –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ—М–Ї–∞—Е –Ј–∞–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї–Њ–є
–Ї—А—Г—В–Њ–є –љ–∞—Б—Л–њ–Є. –° —В—А–µ—В—М–µ–є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є, –Љ–Њ–Ї—А—Л–є, –њ–µ—А–µ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –≥–ї–Є–љ–Њ–є, –Њ–љ
–≤—Л–±—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ —И–Њ—Б—Б–µ. –°–Њ–і—А–∞–ї —Б —Б–µ–±—П –≤–Љ–Є–≥ –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ї—И–Є–є –њ–Є–і–ґ–∞–Ї, –Ї—А—Г—В–∞–љ—Г–ї –Є–Љ –Є
—З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї –і–Њ—А–Њ–≥—Г—О —Б–µ—А–і—Ж—Г –Њ–і–µ–ґ–і—Г –≤ –Ї—О–≤–µ—В. –Ґ–∞–Ї –ї–µ–≥—З–µ.
–Ч–∞—З–µ–Љ –µ–Љ—Г –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Б–∞–Љ –Є–і–µ—В –љ–∞ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ? –Ю–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ—Л–є, –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П
–і–∞–ї—М—И–µ, –Љ–Є–Љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–є, –≤–њ–µ—А–µ–і, –љ–∞ –≥–Њ—А—Г, –≥–і–µ —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–∞
—Б–≤–Њ–Є —П–±–ї–Њ–љ–µ–≤—Л–µ —Б–∞–і—Л —Г–≥—А—О–Љ–∞—П –∞–ї—М–Љ–∞-–Љ–∞—В–µ—А. –Ґ–∞–Љ, –њ–Њ–і –Ї—А–Є–≤—Л–Љ–Є –≤–µ—В–≤—П–Љ–Є –Њ–љ
—Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –њ—А–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Њ–±—Б–Њ—Е–љ—Г—В—М, –њ–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М, –Є
–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—Г—Б–Є—В—М –Ї–Є—Б–ї—Л–Љ–Є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤—Л–Ј—А–µ–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –њ–ї–Њ–і–∞–Љ–Є.
–Ґ–∞–Ї –Є —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –У–і–µ-—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б –Њ–љ —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—Б–Њ—Е—И–µ–є
–Ї—А–∞—И–µ–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ –Є —Б –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б–Ї—А–Є–≤–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ –љ–∞–і–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ
—Б–Љ–Њ—А—Й–µ–љ–љ–Њ–µ —П–±–ї–Њ–Ї–Њ. –І—Г—В—М –њ–Њ–≥–Њ–і—П —А—П–і—Л—И–Ї–Њ–Љ —Б–µ–ї–Є –і–≤–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Я–∞—А–µ–љ–µ–Ї
—А–∞–Ј–і–µ–ї—Б—П –њ–Њ –њ–Њ—П—Б, –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ—Г—З–љ–Њ–µ –∞–±–Є—В—Г—А–Є–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –њ–Њ–і –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ
–ї—Г—З–Є –Є—О–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –Є, —Й—Г—А—П—Б—М, —Г—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–µ–ї—Л–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л,
–њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –µ–µ —Е—Г–і–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є.
-–Т–Є–і–Є—И—М, –Ј–і–µ–Ј—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П, - –і–Њ–љ–µ—Б—Б—П –і–Њ
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞ –љ–∞–і–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–µ–≤–Є—З–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Ї. - –° –њ–Њ–Љ–Њ—И—М—О —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П, -
–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј. - –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –±–µ–Ј –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Є.
-–С–µ–Ј –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П, - —Г–њ—А—П–Љ–Њ —Б–њ–Њ—А–Є–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
-–Ъ–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П? –Х—Б–ї–Є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
-–Э–µ–ї—М–Ј—П, - —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л–є –њ–∞—А–µ–љ–µ–Ї.
-–Ґ—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —А–µ—И–Є—В—М –Є –≤—Л–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–µ—И—М—Б—П.
–Я–∞—А–µ–љ–µ–Ї –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П.
-–ѓ –љ–µ –≤—Л–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞—О—Б—М. –Х—Б–ї–Є –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –і–љ–µ–є –і–µ—Б—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В
—А–µ—И–Є—В—М —Н—В—Г –Ј–∞–і–∞—З—Г, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –≤ –Ј–∞–і–∞—З–љ–Є–Ї–µ –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—В—П–љ—Г–ї —И–µ—О, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤ –Ї–љ–Є–≥—Г,
–Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
-–І—В–Њ, —В—А—Г–і–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞?
–Ь–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є —Б–Њ—Б–µ–і–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є, –љ–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–є
–љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–∞—А–µ–љ–µ–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї—Б—П, –≤–Љ–Є–≥ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤ –≤—Б–µ: –Є –љ–µ–±—А–Є—В–Њ–µ
–Њ—Б—Г–љ—Г–≤—И–µ–µ—Б—П –ї–Є—Ж–Њ —Б –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –Є –њ–µ—А–µ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤
–≥–ї–Є–љ–µ —В—Г—Д–ї–Є –Є –±—А—О–Ї–Є, –Є –Њ–≥—А—Л–Ј–Њ–Ї —П–±–ї–Њ–Ї–∞, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤—И–Є–є—Б—П —А–ґ–∞–≤—Л–Љ –љ–∞–ї–µ—В–Њ–Љ.
-–Э—Г-–Ї–∞, –і–∞–є—В–µ-–Ї–∞, - –Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї
–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Є–њ –≤—Л—Е–≤–∞—В–Є–ї —Б –µ–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї. - –Ъ–∞–Ї–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ—А?
-–Т–Њ—В, –Ј–і–µ—Б—М, - –љ–µ —Б–Љ–µ—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ–Њ—А—Г, –ї–µ–њ–µ—В–∞–ї–∞
–∞–±–Є—В—Г—А–Є–µ–љ—В–Ї–∞. - –Ь–љ–µ –і–∞–ї–Є –љ–∞ —Г—Б—В–љ–Њ–Љ, –∞ —П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ —А–µ—И–Є—В—М. - –Ш –Њ–љ–∞
–њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞ –≤—Б–ї—Г—Е, –±—Г–і—В–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї–∞—Б—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є —З–Є—В–∞—В—М —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї: -
–†–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –Њ—В—А–µ–Ј–Њ–Ї –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П.
-–•–Љ, - –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –њ–µ—А–µ—З–Є—В–∞–ї —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –Њ–±–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ. -
–Ф–ї—П —Г—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ. –Э–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ... –†—Г—З–Ї–∞ –µ—Б—В—М?
–Я–∞—А–µ–љ–µ–Ї –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—Г–љ—Г–ї —И–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Г—О —А—Г—З–Ї—Г, –Є –Њ–љ–Є –≤—В—А–Њ–µ–Љ –љ–∞–≥–љ—Г–ї–Є—Б—М
–љ–∞–і –ї–Є—Б—В–Њ–Љ –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –†–∞–Ј, –і–≤–∞, —И–µ–≤–µ–ї–Є–ї —Б–њ–µ–Ї—И–Є–Љ–Є—Б—П –≥—Г–±–∞–Љ–Є –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З,
–Њ—В—Б–µ–Ї–∞—П –Ї—А–Є–≤—Л–µ –і—Г–≥–Є –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ —Ж–Є—А–Ї—Г–ї–µ–Љ. –®–µ—Б—В—М, —Б–µ–Љ—М. –Т—Б–µ!
-–Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, - –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞.
-–Э—Г–ґ–љ–Њ –µ—Й–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, - —Б–Ї—Г—З–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Љ—П–Љ–ї–Є–ї –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л–є
–Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї.
-–Ф–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є—В–µ, –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є—В–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–±—Л—Б—В—А–µ–µ, –∞ —В–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Њ–њ—П—В—М –±—Г–і–µ—В
–њ–Њ—В–Њ–њ, - –Є, –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–љ—Г–≤ –Њ—И–∞—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–Љ –∞–±–Є—В—Г—А–Є–µ–љ—В–∞–Љ, –≤—Б—В–∞–ї.
-–Т—Л –Ј–љ–∞–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ? - –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ —Г–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–∞.
-–Ф–∞, - —Б–Њ–≤—А–∞–ї –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Є, —Е–ї—О–њ–∞—П –њ–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г –±–Є—В–Њ–Љ—Г –Ї–Є—А–њ–Є—З—Г
–≤–і–Њ–ї—М –∞–ї–ї–µ–Є –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л—Е –±—О—Б—В–Њ–≤, –Ј–∞—В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П –Ї –Њ–±—А—Л–≤—Г.
–Т—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ–ґ–і—М –љ–∞–Ї—А—Л–ї –µ–≥–Њ –њ—А—П–Љ–Њ —Г –Њ–±—А—Л–≤–∞, –љ–∞ –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —И–Њ—Б—Б–µ. –Ш
–Ї—Б—В–∞—В–Є. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –Њ–±—В—А–µ–њ–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –і–µ–ї–µ–љ–Є—О
–Њ—В—А–µ–Ј–Ї–Њ–≤ —Б—А–µ–і–Є —З–Є—Б—В—Л—Е –Є –њ—А–Є–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Ю–љ –љ–µ –≤–µ—А—В–µ–ї, –Ї–∞–Ї
–≤—Б–µ, –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –њ–µ—А–µ—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—П —И–њ–Є–ї–Є –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж –Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤, –∞ —Г–њ–µ—А—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ
–≤–і–Њ–ї—М —А–∞–і–Є—Г—Б–∞, –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –°–∞–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –С—Г–ї—М–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–µ —З—А–µ–≤–Њ
–≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≥–і–µ —Б—В–µ–∞—А–Є–љ–Њ–≤–Њ–є —Б–≤–µ—З–Њ–є –≥–Њ—А–µ–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –Ш–≤–∞–љ–∞
–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Є–Ї–∞—А—Г—Б –≤—Л–≤–∞–ї–Є–ї –љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ
—А–∞—Б—Д—Г—Д—Л—А–µ–љ–љ—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –≤–Є–і–Њ–Љ –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї—М—Ж–∞
–њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б—В—А–µ–ї—М–љ—Г—В—М —Г –і–Њ–±—А–Њ–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж–∞ —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Г, –њ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В
–Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є —А–µ—И–Є–ї –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є –і–Њ–ї–≥. –Э–Њ —В—Г—В –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Е–ї—Л–љ—Г–ї–Њ
–Ї–∞–Ї –Є–Ј –≤–µ–і—А–∞, –Є –≤ —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Є–њ –Є—Б—З–µ–Ј.
–°–∞–Љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –°–µ—А–≥–µ—О –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З—Г. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –љ–∞
–Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–є –ї–Є–њ–∞–Љ–Є –Є –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞, —Г —З–µ—А–љ–Њ–є
—З—Г–≥—Г–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і—Л. –°–Ї–≤–Њ–Ј—М —В–Њ–ї—Б—В—Л–µ –Ї—А–∞—И–µ–љ—Л–µ –њ—А—Г—В—М—П –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ
–Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Є–Љ –ї–µ—В –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–∞–Ј–∞–і. –Ґ–∞–Љ, –≤ –і–Є–Ї–Њ–Љ
–љ–µ—Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –ї–µ—Б—Г, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–∞—П –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —В—А–∞–≤–Њ–є, –≤ —В—А–µ—Й–Є–љ–∞—Е, –≤ –≤—Л–±–Њ–Є–љ–∞—Е,
–≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–∞—Б—М –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞–і–љ–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞. –І—В–Њ-—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ,
–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –≤ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–≥—А–Њ–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є.
–Ы–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞ –≤–µ–ї–∞ –≤ –љ–Є–Ї—Г–і–∞. –Ґ–∞–Љ, –≤–≤–µ—А—Е—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є –њ–Њ
–Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ–±–Њ—Б–Ї—А–µ–±–∞, –љ–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞. –•–Љ—Г—А–∞—П, —Б–µ—А–∞—П, –±–µ–Ј—Л–і–µ–є–љ–∞—П. –Ъ–∞–Ї
–±—Г–і—В–Њ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥ –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—А—Л
–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є—О –≤ –љ–∞–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –≥—А—П–і—Г—Й–Є–Љ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ
—Д–∞–љ—В–∞–Ј–µ—А–∞–Љ. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї—Б—П. –Т–≤–µ—А—Е—Г –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ –њ—П—В–љ–Њ–Љ –Љ–∞—П—З–Є–ї–∞
–њ–ї–∞—Й-–њ–∞–ї–∞—В–Ї–∞ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В, –Њ—В–ї–Є—З–љ–Є–Ї –Є
—Н–≥–Њ–Є—Б—В –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П –Ј–і–µ—Б—М, —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –≤—Б–Ї—А—Л—В—М
–њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї —Б—О–і–∞ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Є
—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ.
–Ґ—А–µ—В–Є–є –і–Њ–ґ–і—М –Ј–∞—Б—В–Є–≥ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞ –љ–∞ –Ї—А—Г—В—Л—Е –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е
–Љ–∞—А—И—А—Г—В–∞—Е –Э–µ—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М, –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤—Л—Е –≥–Њ—А, –≤
—В–µ–Љ–љ—Л—Е, –њ–∞—Е–љ—Г—Й–Є—Е –њ—А–µ–ї—Л–Љ–Є –ї–Є—Б—В—М—П–Љ–Є –Њ–≤—А–∞–≥–∞—Е, –Њ–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–є—В–Є –≤
—Б–µ–±—П. –Ю—В –і–Њ–ї–≥–Њ–є –њ–µ—И–µ–є –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є –ї–Њ–Љ–Є–ї–Њ —Б–њ–Є–љ—Г, –≥–Њ—А–µ–ї–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –≤
–Ї–Є–њ—П—В–Њ–Ї, –≤—Б–њ—Г—Е—И–Є–µ –љ–Њ–≥–Є, –∞ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б—В–Њ—П–ї –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Є—В–∞–љ–Њ–≤—Л–є
—И–∞—А. –¶–µ–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ –љ–∞
–њ—А–Є–≥–Њ—А–Ї–µ, –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –У–∞–≥–∞—А–Є–љ–∞. –ѓ—Б–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ —И–∞—А - —В–∞–Ї–∞—П
–≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П
—Д–Є–≥—Г—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ї–µ—В–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –®–∞—А –ї–µ—В–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, —И–∞—А –Љ–Њ–ґ–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–њ–∞–і–∞—В—М. –Т–µ–і—М –Ы—Г–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ —И–∞—А, –∞ –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ы—Г–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–∞–і–∞–µ—В
–љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї—О, –Ч–µ–Љ–ї—П –њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ –°–Њ–ї–љ—Ж–µ, –∞ –°–Њ–ї–љ—Ж–µ - –°–Њ–ї–љ—Ж–µ —В–Њ–ґ–µ –њ–∞–і–∞–µ—В –≤
–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ґ–∞–Ї –Є –≤—Б–µ –і—А—Г–≥–Є–µ —И–∞—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –≤—Б–µ –Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ
—В–µ–ї–∞ –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–∞–і–∞—О—В... –Ь—Л –ґ–Є–≤–µ–Љ –≤ –њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –Ј–і–µ—Б—М
–љ–µ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ, –Ј—Л–±–Ї–Њ, –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В, –Њ—В—З–µ–≥–Њ —П
–≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–∞–≤–і—Г, —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є
–Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ –±—Л–≤–∞—О—В –Ї—А—Г—В—Л–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤
–љ–∞—З–∞–ї–µ —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є –љ–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –Є –Ї–∞–Ї
—Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Ї—Г—А–Є—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Є –љ–∞–≤–∞–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П
—Б–µ–Љ–Є–Ї—А–∞—В–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –Є —В–µ–±–µ –њ–Њ–≤–µ—А—П—В, —З—В–Њ
–Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–∞–Ј–∞–і —В—Л –ґ–µ–ї—В–Њ—А–Њ—В—Л–Љ —Ж—Л–њ–ї–µ–љ–Ї–Њ–Љ –≤—Л–Ї–∞—А–∞–±–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –ї—О–Ї –Є–Ј
—И–Є–њ—П—Й–µ–≥–Њ —В–Є—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —П–є—Ж–∞. –Э–Њ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М. –Ф–Њ–ґ–і—М —А–∞–Ј–Њ–≥–љ–∞–ї –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є
–Э–µ—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–і—В–Є –і–∞–ї—М—И–µ –≤–љ–Є–Ј. –Ш –Њ–љ –њ–Њ—И–µ–ї.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Г—О, –Њ—В—И—Г–Љ–µ–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–Њ–ґ–і—М, —А–∞—Б—В–∞—П–ї–∞
–≥–і–µ-—В–Њ –љ–∞–і –°–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б–µ–Љ–Є—Ж–≤–µ—В–љ–∞—П –і—Г–≥–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј
—В–µ–њ–ї–Њ–≤—Л–µ —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ—Л, —А–∞–Ј–ї–µ–≥–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В—А–Њ—В—Г–∞—А–∞—Е –ї–µ–љ–Є–≤—Л–µ –Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Л–µ —З–µ—А–≤–Є. –Т
—В–Њ–љ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–µ —В–Є—Е–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–є
–ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —А–∞—Б—В–≤–Њ—А. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ
–≤–ї–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б—Г—Е–Њ–≥–Њ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–Є–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л. –Ф–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і
–≤–µ—З–µ—А, –≤ —И–µ—Б—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і–љ–∞—П
–њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е –ї—Г—З–µ–є. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≥—А—П–Ј–Є, –і—Л–Љ–∞ –Є –њ–µ–њ–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—М –Є–Ј –Ј–ї–Њ–≤–Њ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–і—А –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Ї–∞–Ї
–љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–Ї–Њ–≤–µ—А–Ї–∞—В—М, –њ–µ—А–µ–Є–љ–∞—З–Є—В—М —З–Є—Б—В—Г—О –Є –њ—А–Њ—Б—В—Г—О –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О
–Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О —Б—А–µ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є–Ј –Љ–µ—А—В–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞–Њ—Б–∞
–љ–Њ–≤—Л–є –ґ–Є–≤–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї.
–І—В–Њ–±—Л —Е–Њ—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ
—А—Г—Е–љ—Г–ї –љ–∞ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–∞–њ–µ—В. –†—П–і–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–∞, –љ–Њ —Б–µ—Б—В—М –Њ–љ –љ–µ
—А–µ—И–Є–ї—Б—П, –±–Њ—П–ї—Б—П —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Ї—А–Є–≤—Л–Љ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–Љ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ
–Љ–µ–љ–µ–µ, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ. –Ю–љ–Є –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –ґ–і—Г—В –µ–≥–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л
–Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞. –Я—Г—Б—В—М –ґ–і—Г—В. –Ю–љ –Є—Е –Њ–±—Е–Є—В—А–Є—В. –Э—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М,
–њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Б–≤–∞–ї–Є—В—Б—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ –Є –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї—Г–њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–є
—Б–Є–Ј—Л–є —В—Г–Љ–∞–љ. –° —А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є —В—П–љ—Г–ї–Њ
–Ї–Њ–љ–і–Є—В–µ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П–Љ–Є. –Ю—В –ґ–∞–ґ–і—Л –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ —Б–≤–µ–ї–Њ –љ–µ–±—А–Є—В—Л–µ —Б–Ї—Г–ї—Л. –Т–і–∞–ї–Є,
–≤ –љ—Г–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є —А—Л–±–∞–Ї, –Є –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ
—Б—В—Г–њ–∞—П, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —Е–≤–∞—В–∞—П—Б—М –Ј–∞ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–∞–њ–µ—В, –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ. –Э—Г–ґ–љ–Њ
—А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В—М, –і—Г–Љ–∞–ї –Њ–љ, –ґ–∞–і–љ–Њ –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞—П—Б—М –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і—Г–Ї–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —В–∞–±–∞–Ї–Њ–Љ.
–Э—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–±—А–µ—Б—В–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–∞–ї–∞, —Б–µ—Б—В—М –Є –Њ–Ї—Г–љ—Г—В—М –≤ —В–µ–њ–ї–Њ–µ
–њ–∞—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ —Б–±–Є—В—Л–µ –≤ –Ї—А–Њ–≤—М –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є.
83

–°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –С–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ. –Ґ–Є—Е–Њ. –Х–і–≤–∞ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї–µ—В—Б—П –≤
–Љ–∞—Б–ї—П–љ–Є—Б—В–Њ–є –≤–Њ–і–µ –Ј—Г–±—З–∞—В—Л–є –Ї—А–∞–є —Б—В–∞—А–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л. –Э–∞–і –љ–Є–Љ, —Г —Б–∞–Љ—Л—Е
—Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є, –≤ –љ–Њ–≥–∞—Е, –±–µ–ї—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–µ–Љ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ —И–µ–≤–µ–ї—П—В—Б—П –њ–Њ–і—Б–≤–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л
–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–µ –љ–µ–±–Њ —Б –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Г –Ї–Њ–≤—И–Њ–Љ
–С–Њ—М—И–Њ–є –Ь–µ–і–≤–µ–і–Є—Ж—Л. –Я–Њ –Њ–і–љ—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –Ї –њ–Њ–ї—О—Б—Г –Љ–Є—А–∞, –±–ї–µ–і–љ–∞—П –£—А—Б–∞ –Ь–Є–љ–Њ—А–Є—Б,
–њ–Њ –і—А—Г–≥—Г—О, –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, –Ј–≤–µ–Ј–і–∞ –Р—А–Ї—В—Г—А, –Ї—А—Г–њ–љ–∞—П –Є —П—А–Ї–∞—П –Ї–∞–Ї –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞. –У—Г–ї–Ї–Њ
–±—М—О—В –Ї—Г—А–∞–љ—В—Л –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Б—В–∞–µ—В –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В.
–Ю—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –≤–љ–Є–Ј, –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Є
–њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –±–µ—А–µ–≥. –Ь–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –≤—А–∞–Ј–≤–∞–ї–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–є
–њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–µ—В –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Є —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ
–њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –љ–Є–Ј–Ї—Г—О –Њ–≥—А–∞–і—Г, –Є—Б—З–µ–Ј–∞—П –≤ —Б—Г–Љ—А–∞–Ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ
—Б–∞–і–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–є —Г –љ–µ–≥–Њ –Љ–∞—А—И—А—Г—В, –≤—Б–µ –ї–µ—Б–∞–Љ–Є –і–∞ –њ–µ—А–µ–ї–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ю—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї
–≤–Њ—А, –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–±–µ–ґ–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –і–µ—А–µ–≤–∞ –Ї –і–µ—А–µ–≤—Г, –Њ—В –Ї—Г—Б—В–∞ –Ї
–Ї—Г—Б—В—Г. –Т—Б–µ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–і–∞—З–љ–Њ, –≤—Б–µ –µ–Љ—Г –љ–∞ —А—Г–Ї—Г. –Ф–∞–ґ–µ
–њ–Њ–ї–љ–∞—П –ї—Г–љ–∞ –љ–µ –≤–Ј–Њ—И–ї–∞. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–ї—Г–љ–Є–µ.
–£ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –±–µ–ї–Њ–є —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ–Њ–є –ї–∞–і—М–Є –Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В
–Ї–∞—А—В—Г, –≤–Њ–і–Є—В –њ–Њ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є –≥–∞–Ј–Њ–љ.
–Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ –ї–µ—В—П—В –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –±–∞—И–Љ–∞–Ї–Є. –С–µ—Б—И—Г–Љ–љ–Њ
–Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ–±—Е–Њ–і –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –Є, –њ—А—П—З–∞—Б—М –Ј–∞ –ї–∞—Б—В–Њ—З–Ї–Є–љ—Л–Љ–Є
—Е–≤–Њ—Б—В–∞–Љ–Є, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤ –≥–Њ—А—Г, —З–µ—А–µ–Ј –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б—В, –Ї –ґ–µ–ї—В—Л–Љ
–Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ. –Ь–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–њ–ї—Л–≤–∞—О—В –Ї—А–Њ–љ—Л –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤, —Б –≤–µ—З–µ—А–∞ –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ
–Ј–∞—Б—Л–њ–∞—О—Й–Є–Љ–Є —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—В–Є—Ж–∞–Љ–Є. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є, –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–Љ –њ—П—В–љ–µ,
–њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—Е—А–∞–љ–љ–Є–Ї.
–£ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—О —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Ю–љ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї, —Б–Ї–Њ–ї—М
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л. –†–Њ–≤–љ–∞—П, –њ–Њ—З—В–Є –Њ—В–≤–µ—Б–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞
–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –і–ї—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞—Ж–µ–њ–Њ–Ї,
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–Њ—А–Њ—Е –ї–Є—Б—В—М–µ–≤ –Є –њ–Њ–Ј–≤—П–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ —И–∞–≥–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ–Ј–≤—П–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –°–Ї–≤–Њ–Ј—М —Г–Ј–Ї—Г—О —Й–µ–ї—М –±–Њ–є–љ–Є—Ж—Л –≤–Є–і–љ–Њ,
–Ї–∞–Ї –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–µ—В–µ—А–Ї–∞ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л–є, –њ–Њ–≥–ї—Г–±–ґ–µ –љ–∞–≥–Є–±–∞–µ—В—Б—П, –љ—Л—А—П—П
–≤ –ї–∞–і–Њ–љ–Є. –І–Є—А–Ї - –Є –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М —Г–ґ–µ –њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –±—А—Г—Б—З–∞—В–Ї–Є. –Ч–і–µ—Б—М
–љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—П. –Т–љ–Є–Ј—Г –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є
–і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А. –С–µ—В–Њ–љ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Ї–∞, –Љ–µ—И–Ї–Є —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–∞,
–і–Њ—Б–Ї–Є. –Я—А—П–Љ–Њ —Г —Б—В–µ–љ—Л - –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –ї–µ—Б–∞, –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—Й–Є–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ
–µ–µ –Ї—А–∞—П. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —Г–і–∞—З–∞. –£–ґ–µ –≤–Є–і–љ—Л –ґ–µ–ї—В—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, —Г–ґ–µ –Љ–µ–ґ
–Ј—Г–±—Ж–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –Ї—А—Л—И–Є, –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—Л –Є —А—Г–±–Є–љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л.
–Т–Њ—В –Є –≤—Б–µ, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –њ–∞–ї–∞. –Я—А–Њ–є–і–µ–љ —А—Г–±–Є–Ї–Њ–љ, –Є –≤ —Б–Є–ї—Г –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В
—З–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Ї–Є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –≤ —В–µ–њ–ї—Л—Е –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е
–≤–Њ–ї–љ–∞—Е –њ–µ—А–µ–≥—А–µ—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞ –і–µ–љ—М –Ї–∞–Љ–љ—П. –Ґ–∞–Љ, –≤–љ—Г—В—А–Є, –≤ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ–Љ —З—А–µ–≤–µ
–Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –≤ —Г–Ј–Ї–Є—Е —В–Њ–љ–љ–µ–ї—П—Е, –љ–∞ –≤–Є–љ—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞—Е, –њ–Њ–і –љ–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є
–±–µ—В–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Є —В—Г—Б–Ї–ї–Њ–Љ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П
–і–Њ–ї–≥–Є–є –Є—О–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М.
–Т –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М –Њ–љ –≤—Л–љ—Л—А–Є–≤–∞–µ—В –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї–Є —Г –Ї—А—Г—В–Њ–≥–Њ —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–∞
–Є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–Њ—А–≤–∞—В—М —В–Њ–љ–Ї–Є–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і, –і–Њ–ґ–і–µ–≤—Л–Љ —З–µ—А–≤–µ–Љ
–≤—Л–њ–Њ–ї–Ј–∞–µ—В –љ–∞ –Ї—А–∞–є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –±—А—Г—Б—З–∞—В–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞. –Я–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г - –љ–µ–ґ–Є–ї–Њ–µ
—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б –Њ–і–љ–Є–Љ –µ–і–≤–∞ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ. –Ґ–∞–Љ, –≤ –Ј—Л–±–Ї–Њ–Љ
–њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ, –Љ–∞—П—З–Є—В —В–µ–Љ–љ–∞—П –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞. –°–ї—Л—И–Є—В—Б—П
—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—В—А–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –і–Є–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Д–Є–≥—Г—А–∞
–њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї–Њ–є: —Б—О–і–∞, –Љ–Њ–ї, —Б—О–і–∞. –Ш–ї–Є –љ–µ –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї–∞, –∞ —В–∞–Ї,
–≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї–∞? –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Њ–љ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–µ—В –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Є, –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–≤
—Б—Г—Е—Г—О –і–≤–Њ—А–љ–Є—З—М—О –Љ–µ—В–ї—Г, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ —В–µ–Љ–љ—Г—О –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ—Г—О –Ї–ї–µ—В—М. –Э–Њ—З—М
–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –і–≤–µ—А–µ–є, - –Љ–µ–ї—М–Ї–∞–µ—В –њ–Њ—И–ї—Л–є –Ї–∞–ї–∞–Љ–±—Г—А, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В
–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Г—О –і–≤–µ—А—М.
–Х—Й–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–∞–Ј–∞–і –Њ–љ –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П –±—Л –ґ–Є–Ј–љ—М—О, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ї—В–Њ-—В–Њ –±—Л–ї. –Р
—В–µ–њ–µ—А—М –њ—Г—Б—В–Њ. –Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Ґ-–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї —Б –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ
–њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Љ, —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ–Ї–Њ–є. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б—В—Г–ї—М—П –≤ –±–µ–ї—Л—Е
–Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —З–µ—Е–ї–∞—Е, –і–Є–≤–∞–љ, —В–Њ–ґ–µ —Г–њ—А—П—В–∞–љ–љ—Л–є –≤ –±–µ–ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М,
–Њ–љ –њ–µ—А–µ–њ—Г—В–∞–ї, –Ј–∞–±–ї—Г–і–Є–ї—Б—П? –Ф–∞ –љ–µ—В, –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Ю–љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –љ–∞—Б—В–µ–ґ—М
–Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–љ—Г, –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В –≤–Њ –і–≤–Њ—А, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –≤–љ–Є–Ј, –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –µ–і–≤–∞
–љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤ –ї–Њ–Ї—В–µ–Љ —В–≤–µ—А–і—Л–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–≥–Њ–ї. –У–ї–∞–і–Є—В –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О
–њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ї —А—Л—З–∞–≥–∞–Љ. –Ф–Ј–Є–љ—М, –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ
–њ—А–Њ–њ–µ–ї–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і.
–Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞—А–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —И–∞–≥–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є
–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –і–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —А—П–і –Њ–і–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–µ—И–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ
—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–µ –і–≤–Є–≥–∞–µ—В —А—Л—З–∞–≥–∞–Љ–Є, –і–Њ–±–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–Љ—Г
–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є. –Ч–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–∞—П –±–ї—Г–ґ–і–∞—О—Й–∞—П —Г–ї—Л–±–Ї–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П
–љ–∞ —Е–Є—В—А–Њ–Љ –ї–Є—Ж–µ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Њ—А–∞. –Х–Љ—Г –ї–Є –љ–µ –Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞
–Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Є –Ї–∞–Ї –Ј–≤—Г—З–Є—В —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б—Д–µ—А! –Х—Й–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ
–љ–∞–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ–љ –љ–∞ —А—Л—З–∞–≥–Є, –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г–њ–Њ—А–∞, –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—В—П–ґ–µ–љ–Є—П. –≠—Е-–Љ–∞,
–≤–Њ–≤—Б—О –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–∞, –Ј–≤–µ–љ–Є—В, –њ–Њ–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Г–Љ–µ–ї—Л—Е —А—Г–Ї–∞—Е. –Ґ–∞–Ї
–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –Є–≥—А—Г—И–µ—З–љ–Њ–є —А—Г—З–љ–Њ–є —И–∞—А–Љ–∞–љ–Ї–Њ–є, –Ї—А—Г—В–Є—В, –≤–µ—А—В–Є—В
–њ—А–Њ—Б—В—Г—О –≤–µ—Й—М, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –љ–∞–Є–≥—А–∞–µ—В—Б—П –≤–і–Њ–≤–Њ–ї—М –Є–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –ї–Њ–њ–љ–µ—В –≤–љ—Г—В—А–Є
–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞. –Ю–љ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї, –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П. –Х–Љ—Г –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г
–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Б—В–∞—А—Л–є –∞–Љ–±–∞—А–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –Њ–љ –Є —В–∞–Ї –Ј–љ–∞–µ—В, —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ —В–∞–Љ, –Ј–∞
—Б—В–µ–љ–Ї–Њ–є –≥—Г–і–Є—В, –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —В–µ–њ–µ—А—М –µ–Љ—Г –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ
–і–∞–≤–љ—Л–Љ-–і–∞–≤–љ–Њ –Њ–љ —Г–ґ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї —А–ґ–∞–≤—Л–Љ –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ—Л—А—П–ї –≤
—В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г, —В—А–Њ–≥–∞–ї –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л–µ –Љ–µ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—З–Є–Ї–Є –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ
—Б–≥–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–Љ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ.
–Ф–∞, –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є –Љ–Є—А –±—Л–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ. –Т –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ, –љ–Њ –љ–µ
–±—Л–ї–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ - –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є. –£ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–є–љ, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г
–њ—А–Є—И–µ–ї –Њ–љ. –Я—А–Є–і–Є, –њ—А–Є–і–Є, –Ї—А–Є—З–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –Љ–µ—А—В–≤–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞, –љ–∞–њ–Њ–Є –ґ–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е,
–≤–Ј–±–Њ–і—А–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є—Е–Њ—В—М. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ —В–Њ? –°—В—А–∞—И–љ—Л–є —З–µ—А–≤—М
—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≥—А—Л–Ј–µ—В —П—Б–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –Љ—Г–Ј–µ—П. –І—В–Њ –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М
–љ–∞—И–µ–ї? –Я–Њ—И–ї—Л–є –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ, —В–∞–Ї –Њ–љ –Є —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤
—Н—В–Њ–Љ. –Ю–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ. –Э–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В,
–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ј–љ–∞—З–Є—В, —Б–∞–Љ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –Э–Њ —Н—В–Њ—В –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є–є –ї–µ—Б –љ–∞
–≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Ж–µ–ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П
–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ —З–∞—Б—В—П–Љ?
–Ю–љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Є–Ј–Љ–µ—А—П—О—Й–µ–≥–Њ —И–∞–≥–∞–Љ–Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М. –Ш –≤–і—А—Г–≥ –µ–Љ—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П
—Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Ю–љ –µ—Й–µ –љ–µ –≤–Є–і–Є—В, –љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±–µ
—З–µ–є-—В–Њ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–Ј—Г—З–∞—О—Й–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –≠–≥–µ, –≤—В—П–≥–Є–≤–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–Њ–≥–ї—Г–±–ґ–µ,
–Њ—В–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і—Г—И–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П. –Э–µ –Ј—А—П, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Љ–∞—П—З–Є–ї –≤ –Њ–Ї–љ–µ.
–Ю–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–љ–Њ–≤–∞ - –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–µ–ґ–Є–ї–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –Љ—Г–Ј–µ–є, —Б–Ї–Њ–њ–Є—Й–µ
—Б—В–∞—А—Л—Е, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Ю–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б
—З—Г–ґ–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Н—В–Њ –Њ–љ —Б–∞–Љ? –Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤ —В–µ–Љ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–∞
–Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞—З–љ—Г–ї—Б—П,
–Ј–∞–і–µ–ї —А—Г–Ї–Њ–є —А–∞–Љ—Г, –Є –Љ–Є—А –і—А–Њ–≥–љ—Г–ї. –Э–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —В–Њ—В –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ—В–Є–Ї–Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ —И–µ–ї–Њ—Е–љ—Г–ї—Б—П. –Я–Њ—Б–ї–µ
–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Б–љ–Њ–≤–∞, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—А—П—Е–љ—Г–ї
–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л. –°–љ–Њ–≤–∞ –Ї–∞—З–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–∞, –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М
–Ї–љ–Є–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є, –і—А–Њ–≥–љ—Г–ї –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –Ґ-–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї. –Ь–Є—А –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П, –љ–Њ
—В–µ–Љ–љ–∞—П, —З—Г–ґ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є.
-–Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, - –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞—В–Њ—А.
–§–Є–≥—Г—А–∞ –љ–∞–≥–ї–Њ–≤–∞—В–Њ —Г—Е–Љ—Л–ї—М–љ—Г–ї–∞—Б—М.
-–Ь–Њ–ґ–µ—И—М –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М –Њ–њ—Л—В, –љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О: —Г—А–Њ–љ–Є—И—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –Є—Б–њ–Њ—А—В–Є—И—М
–≥–∞—А–љ–Є—В—Г—А, –∞ —Н—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ —В–≤–Њ–є –Љ—Г–Ј–µ–є, - —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞
–Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–∞—Г–Ј—Г. - –Ы–∞–і–љ–Њ, –љ–µ —Б–µ—А–і–Є—Б—М, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є –ї—Г—З—И–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є,
–Љ–љ–µ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ, –і–∞ –Є —В–µ–±–µ –љ–µ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ. –°–Љ–Њ—В—А–Є, –њ–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї–∞–Ї, –њ–Њ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є
–Ї—А—Г–≥–Є, —Й–µ–Ї–Є –≤–њ–∞–ї–Є, —Б–Ї—Г–ї—Л –≤—Л–њ–µ—А–ї–Є, –Є –≥–ї–∞–Ј–∞, –≥–ї–∞–Ј–∞... –Т—Б–µ –ґ —В–∞–Ї–Є —Е–Њ—З–µ—И—М
–µ—Й–µ —А–∞–Ј–Њ–Ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М, –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М. –Э—Г –і–∞–≤–∞–є, –і–∞–≤–∞–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–µ–≥–Њ–љ—М–Ї—Г, —П
—В–µ–±–µ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г, - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї—Б—П –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Ї
–њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є. - –Т–Њ—В —В–∞–Ї, –≤–Є–і–Є—И—М, —П —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ
–Љ–∞–ї—Л—Е —И–µ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —П –µ—Б—В—М —В–≤–Њ—П –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ—В—Б—З–µ—В–∞,
—В–Њ –µ—Б—В—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–≤–Њ—П, –Њ–љ–∞ –Є –Љ–Њ—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ.
-–Э–Њ —З—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ? - —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
-–Ґ—Л –Є–Љ–µ–µ—И—М –≤ –≤–Є–і—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г? –Ґ—Л –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—И—М –≤–Њ—В —Н—В—Г
–Љ–µ–±–µ–ї—М, —Н—В–Њ—В –і–Њ–Љ, —Н—В—Г –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Є –ї—О–і–Є—И–µ–Ї –Ј–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є? -
—А–∞–Ј–ґ–µ–≤–∞–ї–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. - –Ґ—Л, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–≤—И–Є–є –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О,
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ? - –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —П–≤–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ
–Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—В—П–љ—Г—В—М —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А. - –Р —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л
–≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М. –Т–µ–і—М —В—Л –Љ–µ–љ—П –Є—Б–Ї–∞–ї! –Я—А–Є–Ј–љ–∞–є—Б—П, –љ–µ –ґ–∞–і–љ–Є—З–∞–є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–є—Б—П, —П
–љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г.
-–Ф–∞.
-–Ь–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж. –ѓ –ґ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —Б –Ї–µ–Љ —В–µ–±–µ –µ—Й–µ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М? –Ъ–Њ–Љ—Г –і–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П?
–Ґ—Л –≤–µ–і—М —Б—В—А–∞–і–∞–ї, –Њ—Е –Ї–∞–Ї —Б—В—А–∞–і–∞–ї. –£–ґ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є –љ–µ –Ї
–Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б—Г–љ–µ—И—М—Б—П. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є –њ–Њ–є–Љ–µ—В, - —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї–Њ—Б—М.
- –Ф–∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і –њ—А–Њ—Б–µ–µ—И—М, –∞ –љ–µ –Њ—В—Л—Й–µ—И—М –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–∞. –Э–µ —Б –Ї–µ–Љ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П. –Т–µ–і—М –љ–µ —Б –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ—Л–Љ –ґ–µ, —Б—В–∞—А–Є–Ї –±—Л –љ–µ
–њ–Њ–љ—П–ї, –Љ–∞–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ–љ. –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є? –Э–µ—В, —Н—В–Њ—В –љ–∞–Љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В,
—Б–ї–∞–±–Њ–≤–∞—В. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є, –∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Л? –Ґ–∞–Ї,
–Њ–і–Є–љ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤ - —Б–Њ–ї–і–∞—Д–Њ–љ, —А–∞–±...
-–Э–µ —Б–Љ–µ–є.
-...–•–Њ—В—П –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, - –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В
—А–∞—Б—Б—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. - –Т–Њ—В –Є –≤—Б—П —В–≤–Њ—П –≥–≤–∞—А–і–Є—П. –Ф–∞, –µ—Й–µ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤, –љ–Њ —Н—В–Њ
—Г–ґ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–њ—А–Њ–њ–∞—Б—В–Є–ї—Б—П? –Ъ—Г–і–∞ –Є—Б—З–µ–Ј –љ–∞—И
–љ–µ—Г–≥–Њ–Љ–Њ–љ–љ—Л–є –Љ—Г–ґ–µ–љ–µ–Ї, –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, —З—В–Њ –ї–Є, –≤ –Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М—О –Ї–ї–µ—В–Ї—Г –њ–Њ–і–∞–ї—Б—П? –У–ї—П–і–Є,
–±—Г–і–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—Г–≥–∞—В—М —Б–Ї–Њ—А—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М: –±–µ–Ј–і–љ–∞, –±–µ–Ј–і–љ–∞! –Ю–є, —З—Г—В—М –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї, -
–Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–Њ —Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї–Њ —Б–µ–±—П –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –ї–±—Г, - –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ —З—Г—В—М –љ–µ
–Ј–∞–±—Л–ї. –Х–≥–Њ –љ–µ —В—А–Њ–≥–∞–є, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П —В–≤–Њ–є –Ь–∞—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≤ –Ї–∞–Љ–Њ—А–Ї–µ —Г
–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї —Г–≤–Є–і–µ–ї –Љ–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї–Є, —Б—А–∞–Ј—Г —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ
–љ–µ —Б–Њ–љ –±—Л–ї–∞ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞. –Х–Љ—Г —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ
–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ—Г—Б–Њ—А, –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є–Ј –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—В –Ї–∞–Ї—В—Г—Б—Л.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –њ–∞—Г–Ј–∞.
-–Ф–∞, –Њ —З–µ–Љ —Н—В–Њ —П? –І–µ—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Ї—Г—А–Є—В—М. –Я–Њ–Є—Й–Є —В–∞–Љ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ,
–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –С–Њ—И–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї.
–І—Г—В—М –њ–Њ–≥–Њ–і—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —З–Є—А–Ї–∞–µ—В —Б–њ–Є—З–Ї–Њ–є, –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Б
–љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ –і—Л–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ—З–Ї–Њ.
-–Ь–∞—И–Є–љ–∞ –і—А—П–љ—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М, –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—Б—М,
–њ—А–Њ—Б—В–Њ–≤–∞—В–∞.
-–ѓ –Є —В–∞–Ї –Ј–љ–∞–ї, - –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є —В—Г—В –ґ–µ –ґ–∞–ї–µ–µ—В.
-–Э—Г —Г–ґ, –Ј–љ–∞–ї. –Р –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —А—Л—З–∞–≥–Є —В—А–Њ–≥–∞–ї? –Э–µ—В, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Љ–Њ–є, –≤—А–µ—И—М.
–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –±—Л —В—Л, –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ
–њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞? –Т–µ–і—М –Њ–±–Є–і–љ–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–µ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ
—Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –≤–µ—В—А—П–љ–∞—П –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞...
-–Т—А–µ—И—М, —П –љ–Є —Б –Ї–µ–Љ –љ–µ –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П. –ѓ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї, –њ—А–Њ—Б—В–Њ
–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї, —З—В–Њ–±—Л... –ѓ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї... - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–Љ—П–ї—Б—П.
-–Э—Г, –љ—Г. –Э–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–є—Б—П, –Є–Ј—А–µ–Ї–Є –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–µ –±–Њ–є—Б—П, –њ—А–Є –Љ–љ–µ
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ґ—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –µ—Б–ї–Є —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М, —В–Њ –≤—Б–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—Б—П. –Э–Њ —Н—В–Њ
–љ–µ —В–∞–Ї. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ, - —В–Њ–≥–і–∞,
–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ... –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М, –≤ –≥–Њ—А–і–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ, –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–є—Б—П, —И–µ–њ–љ–Є –љ–∞
—Г—И–Ї–Њ, –љ–∞—Б –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–Є—В.
-–Э–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–є. –ѓ —Г–ґ–µ –Є –Ј–∞–±—Л–ї, –њ—А–Њ —З—В–Њ –і—Г–Љ–∞–ї.
-–Р—Е-—Е–∞, –≤–Є–і–љ–Њ, –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–Є—В –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ. –У–Њ—А–і—Л–є, —Г–њ—А—П–Љ—Л–є, —Г–Љ–љ—Л–є. –Э—Г,
—В–∞–Ї —П –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і—Г—О, —П –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї —В—Л –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—И—М —Н—В–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П,
–ї–µ–ї–µ–µ—И—М –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ —В–≤–Њ–µ - –Т–Ю–Я–†–Х–Ъ–Ш, –і–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є –≤
—З–µ—А–љ–Њ–Љ –љ–µ–±–µ.
-–Ф–∞, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є, - —В–µ—А—П—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —О–Љ–Њ—А–∞, –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. - –Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є
—В—Г–њ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤—Г, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –љ–∞—Б–Є–ї–Є—О, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є...
-–Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤–µ—В—А—П–љ—Л–Љ –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ, - –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б
—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –њ–µ–њ–µ–ї –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї. –Х—Й–µ —А–∞–Ј
–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –і—Л–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Є –Є–Ј—А–µ–Ї–∞–µ—В: - –Р –≤–µ–і—М —В—Л –ґ–∞–і–µ–љ, –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
–Ф–∞, –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–і–µ–љ, –ґ–∞–і–µ–љ –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ, –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П.
–Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л —В–µ–±–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞–ї–Њ, –Ј–µ–Љ–ї–Є - –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —В–µ–±–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–є –µ—Й–µ –Є –љ–µ–±–Њ,
–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ—А–±–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ—В–∞, —В–µ–±–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –Є —В–∞–Љ –±–µ–Ј
—В–µ–±—П —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Є —В–∞–Љ –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ —В–µ–±–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї.
–Р—Е, –ґ–∞–і–µ–љ, –ґ–∞–і–µ–љ, –і–∞–ґ–µ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є–Ј –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј –љ–µ—Г–µ–Љ–љ–Њ–є
–≤–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є.
-–Ъ–∞–Ї –ґ–µ —Н—В–Њ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є–Ј –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є? –Ф–∞ —В—Л
–Ј–∞—А–∞–њ–Њ—А—В–Њ–≤–∞–ї—Б—П...
-–С—А–Њ—Б—М, –љ–µ –њ—А–Є—В–≤–Њ—А—П–є—Б—П.
-–Э–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, - —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–µ—В—Б—П –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
-–£-—Г-—Г, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —А–∞–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —А–∞–Ј–љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї–Є—Б—М, —А–∞—Б—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М.
–Ъ–∞–Ї –ґ–µ, –≥–µ—А–Њ–є, —А–∞–і–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Є–Ї–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ
–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї. –Ф–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–Є —В–∞–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М —А–∞–љ—М—И–µ? –≠–є, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—Б—М, –ї—О–і—Б–Ї–Њ–µ
–±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ, –Њ–≥–ї—П–љ–Є—Б—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, —Г–±–µ–і–Є—Б—М –Є –Ј–∞–Љ—А–Є –њ–µ—А–µ–і —Б–Є—П—О—Й–µ–є –≤–µ—А—И–Є–љ–Њ–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞, –Њ—Б–ї–µ–њ–љ–Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞! - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—З—В–Є –Њ—А–∞–ї –Є–Ј
–Ј–∞–Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М—П. - –Ь–Њ–≥ –±—Л –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–є, –љ–∞–Љ–µ–Ї–љ—Г—В—М. –Э—Г –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ—Л –≥–Њ—А–і—Л–µ, –Љ—Л
–Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –Є—Б–њ–Њ—А—В—П—В, –њ—Г—Б—В—М, –Љ–Њ–ї, —Б–∞–Љ–∞ –і–Њ–≥–∞–і–∞–µ—В—Б—П, –і–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П
–Є–ї–Є –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–Ј–љ–∞–µ—В. –Т–Њ–љ —З–µ—А–µ–Ј –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –≤–µ—Б—В–Њ—З–Ї—Г
–љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –Є–ї–Є –љ–µ—В, –ї—Г—З—И–µ —З–µ—А–µ–Ј –Т–∞—Б—О –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞. –Ю,
—Н—В–Њ—В –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –±—Л, –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Б—М, —Н—В–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ї—А—Г—В–Є–ї –±—Л, –љ–∞–≤–µ—А—В–µ–ї, -
—З—В–Њ —В–∞–Љ —Б–∞–≥–Є, –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –љ–∞—А–Њ–і —Б–ї–∞–≥–∞—В—М –±—Л –љ–∞—З–∞–ї. –У–ї—П–і–Є—И—М, –Є –і–Њ –љ–µ–µ –±—Л
–і–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М. –Я–Њ–≥–ї—П–і–Є—В–µ, –њ–Њ–≥–ї—П–і–Є—В–µ, –ї—О–і–Є –і–Њ–±—А—Л–µ, –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї—О –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П
–њ–Њ–Љ–Є—А–∞—В—М —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є, –Є –≤—Б–µ - —А–∞–і–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Є–Ї–∞, —А–∞–і–Є
–Њ–і–љ–Њ–є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В–Ї–Є. –•–Њ—А–Њ—И, —Е–Њ—А–Њ—И, –љ–µ—З–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Н—В–∞–Ї–Є–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А
–§–∞—Г—Б—В—Г—Б –љ–∞–≤—Л–≤–Њ—А–Њ—В, –і–Њ–Љ–Њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–є, —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є. –Ъ–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є, –∞ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є
–љ–∞—И, –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є. –Ґ–∞–Ї –±—Л –≤—Б–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤ —А–∞–Ј—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Є
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–Њ, –Ї–∞–±—Л –љ–µ –Њ–і–љ–∞ –љ–µ—Г–≤—П–Ј–Њ—З–Ї–∞. –Ґ—М—Д—Г, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –і–∞–ґ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ
–њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї–∞—П –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞.
-–Ъ–∞–Ї–∞—П –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞? - –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–Љ–µ—А.
–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б–њ–ї—О—Й–Є–ї –њ–Њ—В—Г—Е—И–Є–є –Њ–Ї—Г—А–Њ–Ї –Є
—Г—Е–Љ—Л–ї—М–љ—Г–ї—Б—П.
-–°—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П. –•–∞, –Ї–Њ–Љ—Г –љ—Г–ґ–µ–љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М –≤ —А–∞—О, –≥–і–µ –Є —В–∞–Ї
–≤–µ—Б–µ–ї–Њ? –ѓ —В–∞–Ї –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е —В–∞–Љ, –Ј–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є,
–ї—О–±–Њ–µ –≥–µ—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—И–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В. –Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ–є
–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є, –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Г—О —Б—В–µ–љ—Г —Б–і–µ–ї–∞—В—М –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –Њ–љ–∞
–µ—Б—В—М. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ - –њ—А–Є–є—В–Є –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л, –≤—Б—В–∞—В—М —Г –Ї—А–∞—П, –Њ–±–љ—П—В—М –Ј–∞
—Е—Г–і–µ–љ—М–Ї–Є–µ –њ–ї–µ—З–Є. –Ґ—Г—В –Є –Њ–і–Є–љ –Ї–Є—А–њ–Є—З –њ–Њ–і–Љ–Њ–≥–∞.
-–Т—Л—А–∞–ґ–∞–є—Б—П —П—Б–љ–µ–µ.
-–Ъ—Г–і–∞ —Г–ґ —П—Б–љ–µ–µ. –Я–Њ–Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ
—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Э—Г, –∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї, —В–∞–Ї —Г–ґ –і–∞–ї—М—И–µ –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ
–њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В...
-–Т—А–µ—И—М. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –љ–µ –±—Г–і—Г —В–µ–±–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М.
-–Э—Г, –∞ –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —В—Л —Б—О–і–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї? –Э–µ—Г–ґ—В–Њ —А–µ—И–Є–ї —Г–Ї–Њ–Ї–Њ—И–Є—В—М –≤—Л—Б—И–µ–µ
–љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ? –Ф–∞ –љ–µ—В, —В—Л –±—Л –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—Л –љ–µ –ї—О–±–Є—И—М
–±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, —В—Л –±—А–µ–Ј–≥—Г–µ—И—М —Г–Ї—А–∞–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–і–µ—П–Љ–Є. –Т–µ–і—М –±—Л–ї –ґ–µ –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А, –∞
–љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –і–≤–∞–ґ–і—Л.
-–Ф–∞, –і–∞, –Ј–і–µ—Б—М —В—Л –њ—А–∞–≤, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П, - –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ
—Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –љ–Њ—З–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—В—М. - –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–≥–≤–Њ–Ј–і–Ї–∞, –≤ —Н—В–Њ–Љ
–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б—П —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–ї—П
—В–µ–±—П, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≤–∞—В–Њ –±—Г–і–µ—В. –£—Е–Њ–і–Є, —Г—Е–Њ–і–Є –Є –љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–є—Б—П –≤–њ—А–µ–і—М –Љ–љ–µ
–љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Є–±–Њ —В—Л –љ–µ –≤–µ—А–Є—И—М –≤ –Љ–µ–љ—П, –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–µ–є —Б–Є–ї—Л.
–Ґ–µ–Љ–љ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –Є, —Б–і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М, –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В.
–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –µ—Й–µ –Є–≥—А–∞–µ—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞
–і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б–њ—А–∞–≤–∞, –Є–Ј –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –Њ–Ї–Њ–љ –≤ –±–µ–ї—Л—Е —И–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е —И—В–Њ—А–∞—Е.
–≠—В–Њ—В –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ј–≤—Г–Ї —Г–≤–Њ–і–Є—В –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤–∞ –Є–Ј –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –≤–љ–Є–Ј, –≤–Њ –і–≤–Њ—А, –і–∞–ї—М—И–µ
–љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–Ї, –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ—А–Є–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є –њ—А–Є—Б—В–µ–љ–Њ–Ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤ —П—А–Ї–Њ–µ, —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–µ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–∞–Љ,
–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Ф–∞, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ
–Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞ –љ–∞–Ї—А—Л—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤
—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ–≥–Є—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е, —З–Є—Б—В—Л–µ, —Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞. –І—В–Њ-—В–Њ –µ–≥–Њ
–Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ, –Є –Њ–љ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –љ–∞—В—Л–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞
—И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є. –Ш–і–µ—В –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ—Г —Г–Ј–Њ—А—Г
–Ї–Њ–≤—А–Њ–≤–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ї–Є–≤–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ. –Ы—О–і–Є –±–µ—А—Г—В
–њ–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А–µ–Ї –Є –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–ї—Л–±–∞—О—В—Б—П –≤—Б–ї–µ–і –±–Њ—Б–Њ–љ–Њ–≥–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—В—О. –Х–і–≤–∞ –Њ–љ
–і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≤–µ—А—И–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–Љ–Є –≤–µ–љ–Ј–µ–ї—П–Љ–Є —А—Г—З–Ї–Є –Є
–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –±–µ–ї—Л–µ –і–≤–µ—А–Є. –Ч–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞–µ—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Є —А–∞–Ј–і–∞—О—В—Б—П –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–µ
–ґ–Є–≤—Л–µ –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В—Л, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –Њ–≤–∞—Ж–Є–Є. –Э–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, —Г
–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї–∞—Е–Є—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–∞ —Б –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ–∞—Б—В—Л–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П —Е–ї–Њ–њ–∞—В—М –≤ –ї–∞–і–Њ—И–Є, –Њ–љ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В: "–°–µ—А–≥–µ–є
–Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤!", - –Є —Б–∞–Љ, –њ—А–Є—Е—А–∞–Љ—Л–≤–∞—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Г—О –љ–Њ–≥—Г, –Є–і–µ—В
–љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г. –І—Г—В—М –Њ–≥–ї—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В —В–µ–ї–µ–Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л, –љ–∞
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –µ–≥–Њ
–Љ–∞—А—И—А—Г—В–∞.
–І—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ—И–∞–µ—В –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—В—О. –Ю–љ –њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ —Б—В–∞–≤–Є—В —И–∞–≥, –љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В
- –≤–Њ—В-–≤–Њ—В —Б–Њ—А–≤–µ—В—Б—П. –Х–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –і–µ—В–∞–ї—М. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В
–≥–ї–∞–Ј–∞, –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –ї–Є –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–љ—Л —И–љ—Г—А–Ї–Є, - –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥ –Ј–∞–њ–љ—Г—В—М—Б—П –Є
—Г–њ–∞—Б—В—М, - –љ–Њ –≤–Є–і–Є—В –ї–Є—И—М –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ, –Ј–∞–њ–µ–Ї—И–Є–µ—Б—П –Ї—А–Њ–≤—М—О –±–Њ—Б—Л–µ –љ–Њ–≥–Є.
–Р–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і–∞–µ—В —А—Г–Ї—Г –Ї—А–µ–њ—Л—И—Г –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —Г–Ј–љ–∞–µ—В –≤ —В–Њ–ї–њ–µ –≥–Њ—Б—В–µ–є
–≤–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤–∞. –Э–Њ —Н—В–Њ –µ—Й–µ –њ–Њ–ї–±–µ–і—Л, —А—П–і—Л—И–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г
—Б –љ–Є–Љ, —З—Г—В—М –і–∞–ґ–µ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М, –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤—Г—О —Б–µ—А–µ–ґ–Ї—Г –њ–Њ–і
—И–µ–њ–Њ—В —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б—В–Њ–Є—В –°–Њ—Д—М—П –Ш–ї—М–Є–љ–Є—З–љ–∞ –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ–∞.
-–Ч–∞–і–∞–љ–Є–µ –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ, - –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є–Ј —В–Њ–ї–њ—Л
–љ–µ–Ј–∞–і–∞—З–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Г.
–Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ, –Њ–љ –љ–µ —Б–ї—Л—И–Є—В, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—Г—Б—В–Њ –Є —З–Є—Б—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ.
-–Ч–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ, - —Г–ґ–µ –љ–µ—А–≤–љ–Њ –≥—Г–і—П—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—В–Є –Є –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ
–Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞—О—В.
-–Р—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞ –љ–µ–є –њ–ї–∞—В—М–µ, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ.
–Ґ–Њ–ї–њ–∞ –љ–µ–Љ–µ–µ—В.
-–Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ! - –Ї–∞–Ї –±—Л –Є–Ј–≤–Є–љ—П—П—Б—М –Ј–∞ –≥–Њ—Б—В—П, –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П
–Ї–Њ—А–µ–љ–∞—Б—В—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
–°–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—П –≤ —Б–њ–Є–љ—Г, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є—В –Ї –Љ–∞–ї–∞—Е–Є—В–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї–Є–Ї—Г, –±–µ—А–µ—В
—Б –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–±–Њ—З–Ї—Г –Є, —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П, –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В:
-–Я–Њ—З–µ—В–љ–Њ–є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –≥–µ—А–Њ—П...
–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —В–Њ–љ–µ—В –≤ –Љ–Њ—А–µ –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–Њ–≤.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О—В, –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—О—В —А—Г–Ї–Є,
—Е–ї–Њ–њ–∞—О—В –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї–µ–Ј—Г—В –ї–Њ–±—Л–Ј–∞—В—М—Б—П. –Ъ—А–µ–њ—Л—И –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≥–Њ—Б—В–µ–є
–≤–µ—З–µ—А–∞. –І–ї–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В
–љ–µ—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–µ–Љ–Њ–є —З–µ—А–µ–і–Њ–є.
-–Э—Г, –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ? - —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–Є–≤–∞—П –Є –Ї–Є–≤–∞—П –≤ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї.
- –•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ?
-–Р –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, –±—Г–і—В–Њ –Љ—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є?
- –љ–∞–њ–Є—А–∞–µ—В –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–∞—П –і–∞–Љ–Њ—З–Ї–∞, —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А-–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞.
-–У–µ—А–Њ–є, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥–µ—А–Њ–є, - –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–≤–µ—А–Ї–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–Љ–Є
–њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г –Є –і–∞—А–Є—В —Б–≤–µ—А—Е—В–Њ—З–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л –љ–∞
—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Ї–∞–Љ–љ—П—Е.
-–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤–∞ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–Љ, - –њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є
–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –≥–Њ—Б–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, - –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ, - –Є –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–Є–≤–∞–µ—В.
–Ґ—Г—В –ґ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –≤–Є–і–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П.
-–Ч–∞ –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞ –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—В–µ—Б—М, –ґ–Є–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–µ
—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Я–ї—Л–≤—Г—В, –њ–ї—Л–≤—Г—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –Є –ї–Є—Ж–∞
–±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Ї—А–∞–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В –Ї—А–µ–њ—Л—И–∞.
–С–Њ–Є—В—Б—П –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ –љ–µ–Љ —Г–Ј–љ–∞—В—М? –°—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—В —Б –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ–Є.
–Я–Њ—Е–Њ–ґ –Є –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ. –°–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–Њ –љ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ. –°–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ –љ–µ–є.
–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Ч–∞—З–µ–Љ? –Ш —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ
–њ—А–Њ—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А—П–і.
–†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є—Б–љ–Є—В—М—Б—П –і–≤–∞–ґ–і—Л –Њ–і–Є–љ —Б–Њ–љ? –Э–µ—В –Є –љ–µ—В. –Э–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П,
–≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ—В —Г –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –љ–Њ –Є —В–µ–Љ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М, —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–љ. –° —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П, —Б —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ –љ–µ–є, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —И–∞–≥,
–Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–µ —И–µ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і –µ–µ –љ–µ–Љ–µ—А–Ї–љ—Г—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ф–∞, –Ј–і–µ—Б—М
–љ—Г–ґ–µ–љ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–Є–ї—М. –Ю, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –≥–Њ—А–і–∞—П
–і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, —П –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —В–µ–±–µ –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Э–∞ –Љ–љ–µ –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ–∞—П —А—Г–±–∞—Е–∞, –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ,
–Є—Б–њ–∞—З–Ї–∞–љ–љ—Л–µ –≥–ї–Є–љ–Њ–є –±—А—О–Ї–Є. –£ –Љ–µ–љ—П –љ–Њ–µ—В —Б–њ–Є–љ–∞, –≥–Њ—А—П—В —Б–њ–µ–Ї—И–Є–µ—Б—П –≤ –Ї—А–Њ–≤—М
–љ–Њ–≥–Є. –Ф—Г—И–∞ –Љ–Њ—П –њ–Њ–µ—В, –∞ –≤ –≥—А—Г–і–Є –Љ–Њ–µ–є –≥–Њ—А–Є—В —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г–≥–ї—М. –Ц–Є—В—М –љ–µ
—Е–Њ—З–µ—В—Б—П –±–µ–Ј —В–µ–±—П. –Я—А–Є–і–Є, –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г–є –Љ–Њ–Є —Б—Г—Е–Є–µ –≥—Г–±—Л.
–Ш–Ј –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –°–Њ–љ—П.
-–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –±—А–∞—В –Љ–Њ–є.
–¶–µ–ї—Г–µ—В –µ–≥–Њ –≤ –Њ–±–µ —Й–µ–Ї–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤ –≥—Г–±—Л. –Ю–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞—О—В –Є
–њ—А–Є–ї–Є–њ–∞—О—В –Ї —Ж–µ–љ—В—А—Г –Ј–∞–ї–∞, –Ї –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–∞–ї–∞—Е–Є—В–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї–Є–Ї—Г.
-–Ґ—Л –≤—Б–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї? - —И–µ–њ—З–µ—В —Б–µ—Б—В—А–∞.
-–Я—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ, –Є–±–Њ –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П, –∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, -
–Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
-–£–Ј–љ–∞–є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А—М, - –њ—А–Њ—Б–Є—В –°–Њ–љ—П.
-–Э–µ–ї—М–Ј—П —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ–і–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ - —Н—В–Њ —П.
–Т—Б–µ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –•–ї–Њ–њ–∞—О—В –њ—А–Њ–±–Ї–Є —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ,
–Ј–≤–µ–љ—П—В —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л. –Ґ–Њ—Б—В—Л, –Ј–і—А–∞–≤–Є—Ж—Л, –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –µ–≥–Њ —З–µ—Б—В—М, –≤
—З–µ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —В—А–Њ–µ. –Ч–∞
–Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —Г–ґ–Є–љ–∞—О—В –°–Њ–љ—П,
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ–∞—Б—В—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–Њ–љ—П –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–∞.
–Ю–љ–∞ —Б–Љ–µ–µ—В—Б—П, —И—Г—В–Є—В –Є –і–∞–ґ–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Є–Ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ
–љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ґ–Њ—В —Г—Е–Љ—Л–ї—П–µ—В—Б—П, —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–∞—П –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А
–≤—Б—П–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ–і—В—А—Г–љ–Є–≤–∞—О—В –љ–∞–і –°–µ—А–≥–µ–µ–Љ
–Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ, –љ–∞–і –µ–≥–Њ –љ–∞—А—П–і–Њ–Љ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Е–Њ—Е–Њ—З—Г—В, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л
–Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Г—О —Б—В–µ–љ—Г. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –ґ–µ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –ї–Њ–≤–Є—В –µ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і,
–њ—Л—В–∞—П—Б—М —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М —Е–Њ—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, –Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –Њ—В
–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞–≤–Ї–∞–љ—М—П —Б–Њ—Б–µ–і–∞. –Ґ–Њ—В –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, –љ–Њ –≤–µ–і–µ—В
—Б–µ–±—П –µ—Й–µ —А–∞–Ј–≤—П–Ј–љ–µ–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ—М–µ—В –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—М—П–љ–µ–µ—В. –Ф–∞–ґ–µ
–±–µ—А–µ—В –°–Њ–љ–Є–љ—Г —А—Г–Ї—Г –Є –њ–Њ–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–Ї—В—П.
-–ѓ –≤–∞–Љ –њ—А—П–Љ–Њ, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є, —Б–Ї–∞–ґ—Г. –Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, –µ–є-–±–Њ–≥—Г,
–њ–Њ—А–Њ–і–љ–Є–ї—Б—П –±—Л —П —Б –≤–∞–Љ–Є. –І—В–Њ –Ј–∞ —З—Г–і–µ—Б–љ–∞—П —А—Г–Ї–∞ —Г –≤–∞—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А–Є—Ж—Л, -
–љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П, —Ж–µ–ї—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ.
–°–Њ–љ—П –њ–Њ—Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В —А—Г–Ї—Г –Є –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–Є–≤–∞–µ—В –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Г.
-–≠—Е, —Б–±—А–Њ—Б–Є—В—М –±—Л –≥–Њ–і–Ї–Њ–≤ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В, - –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ—В –Ї—А–µ–њ—Л—И,
–љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—П –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Г—О —А—Г—З–Ї—Г. - –І—В–Њ –Љ–Њ–ї—З–Є—В–µ, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є? –Я–Њ–і–µ–ї–Є—В–µ—Б—М
—А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞. –Э–µ –ґ–∞–і–љ–Є—З–∞–є—В–µ.
-–Ъ–∞–Ї–Є–Љ–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є? - –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –±–µ–ї–µ–љ–µ–µ—В.
-–Э—Г –њ—А–∞–≤–Њ, —Б–Ї—А–Њ–Љ–µ–љ, —Б–Ї—А–Њ–Љ–µ–љ –≤–∞—И –±—А–∞—В–µ—Ж, - –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї
–°–Њ–љ–µ. - –Т–µ–і—М –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–µ—А–Њ–є, –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–љ —В–µ–њ–µ—А—М
–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –і–ї—П –≤–∞—Б
–Ј–≤–µ–Ј–і–∞ –≥–µ—А–Њ—П - –≤—Б–µ –Њ–і–љ–Њ —З—В–Њ —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ. –Ч–∞ —В–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ
–Ј–≤–µ–Ј–і—Л, —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є—П –Љ–∞–ї–Њ. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Ј–∞ –љ–∞—И—Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О
–±–µ–і–љ–Њ—Б—В—М, –і–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ, –љ–Њ —Г–ґ –Њ—В–љ—П—В—М-—В–Њ... - –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Ж–µ–ї—Г–µ—В
—А—Г–Ї—Г. - –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞–Љ —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ. - –Ф–Њ—Б—В–∞–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е–Є —Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О
—В–µ—В—А–∞–і—М –Є –њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –°–Њ–љ–µ. - –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П, —Н—В–Њ –≤–∞—И–µ. - –Э–Њ
–µ–і–≤–∞ –°–Њ–љ—П –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –≤–Ј—П—В—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, —В—Г—В –ґ–µ –њ—А—П—З–µ—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Є
–Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ–Њ –≤–Ј–і—Л—Е–∞–µ—В - –Ґ–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М, –Њ–љ–∞, –Њ–љ–∞. –Т–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–Ј–Ї–Є
–Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї —Б–µ—А–і–µ—З–Ї–Њ –Ј–∞–±—Г—Е–∞–ї–Њ. –Р–є-—П-—П–є, –Ї–∞–Ї –ґ–µ —Н—В–Њ —Г –≤–∞—Б –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ.
-–Ю—В–і–∞–є—В–µ, - —А–µ–Ј–Ї–Њ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
–Э–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –љ–µ –њ—Г–≥–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Я–Њ–≥–ї—Г–±–ґ–µ
–Ј–∞–њ–Є—Е–Є–≤–∞–µ—В —В–µ—В—А–∞–і—М.
-–Ю—В–і–∞–Љ. –Я—А–Є–і–µ—В –≤—А–µ–Љ—П - –Њ—В–і–∞–Љ, –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—И–њ–µ–Ї—В, –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ
–њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ –Њ—В–і–∞–Љ.
-–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г, - –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤.
-–≠—Е, –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ, —А–∞–Ј–±–Њ–ї—В–∞–ї, –≤—Б–µ —А–∞–Ј–±–Њ–ї—В–∞–ї, - –Ї—А–µ–њ—Л—И —Б —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ
–њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. - –Ф—А—П–љ–љ–Њ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ–Ї, –ї–Є–±–µ—А–∞–ї, –і–∞—А–Њ–Љ
—А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ. –Э—Г, –і–∞ –С–Њ–≥ —Б –љ–Є–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞—И–Є–љ—Г, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞—И
–Њ–њ–ї–Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є. –Ч–љ–∞–µ—В–µ –ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –Ї–∞–Љ–љ–Є.
–Р, - –≤–µ—А—В–Є—В —А–ґ–∞–≤—Л–Љ –Ї–ї—О—З–Њ–Љ, - —З–µ—А—В —Б –љ–µ–є, –љ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Њ. - –Я–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї
–°–Њ–љ–µ.
–Ґ–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—Б–µ–ї–∞ –Є –Є–≥—А–Є–≤–∞.
-–°–µ—А–µ–ґ–∞, –њ–Њ–і–µ–ї–Є—Б—М —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –њ–Њ-–±—А–∞—В—Б–Ї–Є.
-–І–µ–Љ –ґ–µ?
-–С–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ, - —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —И–µ–њ—З–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ. - –Т–µ—А—О,
–≤–µ—А—О –≤ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ –ґ–∞–ї–µ–ї, –≤—Б–µ, –≤—Б–µ –Њ—В–і–∞–ї –њ–Њ–і
–≤–∞—И —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –∞—А–Ї—В—Г—А. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ –≤—Б–µ –Њ—В–і–∞–Љ - –≤—Б–µ, —Б–ї—Л—И–Є—В–µ? –°–∞–Љ–Њ—Г—Б—В—А–∞–љ—О—Б—М,
—Г–є–і—Г –љ–∞ –≤–µ—З–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є. –Ф–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –љ–∞–Љ, —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ, –љ–∞–і–Њ? - —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞
–°–Њ–љ—О. - –Р –≥—А—Г–і—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л! - –Я—А–Є–≤—Б—В–∞–µ—В –Є —Ж–µ–ї—Г–µ—В –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ
–і–µ–Ї–Њ–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ.
–°–Њ–љ—П –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–µ–і—Г—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г.
-–Ю-–∞—Е, - –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –њ–Њ–і –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є.
–Ґ–Њ–ї–њ–∞ —А–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞—В–Є—Е–∞–µ—В. –У–і–µ-—В–Њ –њ–∞–і–∞–µ—В –Є–Ј –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–Ї
—Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–є —Д—Г–ґ–µ—А. –Т —А—Г–Ї–∞—Е —Г –°–Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Г–њ—А—Г–≥–∞—П —А—Л–ґ–µ–≤–∞—В–∞—П –њ—А—П–і—М
–≤–Њ–ї–Њ—Б. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї—А–µ–њ—Л—И –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Ї—А–µ–њ—Л—И, –∞ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є
–і—А—П—Е–ї—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї. –Ю–љ —Б—Г–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ —В–µ–Љ–µ—З–Ї–Њ. –Я–∞–ї—М—Ж—Л –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г
–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Ю–љ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–њ—А—П–Љ–ї—П–µ—В—Б—П –Є –Ї—А–Є—З–Є—В –≤ —В–Њ–ї–њ—Г:
-–Т–Њ–љ!
–° —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ, —Б –≤–Є–Ј–≥–Њ–Љ, –њ–Њ–і –≥—А–Њ—Е–Њ—В –њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е —Б—В—Г–ї—М–µ–≤ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ
—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є —Б –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –±—А–Њ—Б–∞—О—В—Б—П –≤—А–∞—Б—Б—Л–њ–љ—Г—О.
-–Т–Њ-–Њ-–Њ–љ! - –Ї—А–Є—З–Є—В –≤–Њ—Б–ї–µ–і –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Є–Ї –Є
–љ–∞–і—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ–∞–і–∞–µ—В –љ–Є—Ж.
–°–Њ–љ—П, –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –±–Њ–ї–µ–µ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Е–Њ—Е–Њ—В–∞—В—М. –Х–µ
–љ–µ—А–≤–љ—Л–є –њ—А–µ—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–є —Б–Љ–µ—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є
–њ—Г—Б—В–µ—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞, –±—М–µ—В —Г–њ—А—Г–≥–Њ –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–µ –Ї–∞–љ–і–µ–ї—П–±—А—Л, –≤–Ј–Љ—Л–≤–∞–µ—В –≤–≤—Л—Б—М –≤
—Б–Є–љ–µ–µ —А–∞–Ј—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –≤ —В—Г—З–љ—Л–µ –±–µ–ї–Њ–Ї—А—Л–ї—Л–µ —Б—В–∞–Є –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤, –Є —Б —Б—Г—Е–Є–Љ
–і—А–µ–≤–µ—Б–љ—Л–Љ —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ —Б–њ–Є—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–Ј–Њ—А —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–µ—В–∞.
–†–∞—Б–њ–∞—Е–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —Б—В–∞–≤–љ–Є, —А–∞–Ј–і–≤–Є–≥–∞—О—В—Б—П —И–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ —И—В–Њ—А—Л, –Є –≤ —В–Є—Е—Г—О
–Є—О–ї—М—Б–Ї—Г—О –љ–Њ—З—М, –Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤—И—Г—О—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—А—Г—О –±—А—Г—Б—З–∞—В—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М, –љ–∞ —А–µ–њ—З–∞—В—Л–µ
–Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ, –Ј–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –Ј—Г–±—З–∞—В—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л, –Ј–∞ —А–µ–Ї—Г, –љ–∞—А—Г–ґ—Г
–±—Г–ї—М–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –ї–µ—В–Є—В, –љ–µ —Б–ї–∞–±–µ—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є–Ї.
–°—В–∞—А–Є–Ї, –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–≤ –і—Л—А—П–≤—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—А—З–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г.
-–У–Њ–ї—Г–±—М, –≥–Њ–ї—Г–±–Њ—З–µ–Ї, - –≤—Б—Е–ї–Є–њ—Л–≤–∞–µ—В –Њ–љ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е–Њ—Е–Њ—В. -
–Я—А–Є–ї–µ—В–µ–ї–∞ –њ—В–Є—З–Ї–∞-–љ–µ–≤–µ–ї–Є—З–Ї–∞, —Г–Ї—Г—Б–Є–ї–∞ –≤ —В–µ–Љ—П —Б—В–∞—А–Є—З–Ї–∞, - –Ј–∞–њ–µ–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—В—П–ґ–љ–Њ
—Б—В–∞—А–Є–Ї, - –њ–Њ–Љ–Њ–≥–Є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–Є –µ–Љ—Г, —Б–µ—Б—В—А–Є—З–Ї–∞, –∞ –љ–µ —В–Њ –њ–Њ–і–Њ—Е–љ–µ—В —Б –њ—Г—Б—В—П—З–Ї–∞.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞–і —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–Љ, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В
–≤–µ—Б–љ—Г—И—З–∞—В—Л–є —З–µ—А–µ–њ.
-–°–Љ–µ—А—В—М –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–∞, - —Б—В–∞–≤–Є—В –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –і–µ—Н–Ї—Б–≥—Г–Љ–∞—Ж–Є–Є.
-–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ, - —Б—В–∞—А–Є–Ї –њ–ї–Њ—В–љ–µ–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —Б–Ї–ї–µ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. - –Я–Њ–Љ–Њ–≥–Є
–Љ–љ–µ... –љ–∞–Љ, –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–Є. –£–≤–µ–і–Є –Љ–µ–љ—П –Њ—В—Б—О–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ј–і–µ—Б—М –≤—Б–µ
–њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г —Б—Е–Њ–і—П—В —Б —Г–Љ–∞. –Т–Њ–љ, –≥–ї—П–і–Є, –Є –°–Њ–љ—П –љ–µ –≤ —Б–µ–±–µ. –Ф–∞ –Є —В—Л, –Є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–Њ—В –≤ –Њ–Ї–љ–µ. –£ –љ–µ–≥–Њ –±–µ–ї—Г–≥–∞. –Ю–љ –ґ–і–∞–ї —В–µ–±—П, –Њ–љ –±—А–∞—В —В–≤–Њ–є, –Њ–љ –њ–Њ—З—В–Є
—В–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ –Є —В—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ. –Э–Њ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г... - —Б—В–∞—А–Є–Ї –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї.
- –°–Ї–Њ—А–µ–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –≤–Њ–љ, –≤–Є–і–Є—И—М, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —Г–ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї–Њ—Б—М, -
–њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤ –њ—Г—Б—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–µ—В: - –Я—А–Є–ї–µ—В–µ–ї–∞ –њ—В–Є—З–Ї–∞...
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, –њ–Њ–і–±–µ–≥–∞–µ—В –Ї –°–Њ–љ–µ, –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В –µ–µ –Ј–∞
–њ–ї–µ—З–Є, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —Б–і–µ—А–ґ–∞—В—М, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М –љ–µ–≤–µ—Б–µ–ї–Њ–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –°–Њ–љ—П
–≤—Л—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ, –≤—Л—В–Є—А–∞—П –љ–∞ —Е–Њ–і—Г —А—Г–Ї–Є, —И–µ—О, –≥—А—Г–і—М, –Є
—Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М, —И–µ–њ—З–µ—В:
-–ѓ –і—А—П–љ—М, - –≤—Б—Е–ї–Є–њ—Л–≤–∞–µ—В –Є, –љ–µ –≤–Є–і—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В: - –і—А—П–љ—М.
–Э–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –Ї–∞—А—Г—Б–µ–ї—М. –°–Њ–љ—П –≤—Л—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—Л–±–µ–≥–∞–µ—В –њ—А–Њ—З—М –Є–Ј
–Ј–∞–ї–∞. –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–є, –љ–Њ –≤–і—А—Г–≥ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П,
–њ–Њ–і–±–µ–≥–∞–µ—В —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ї —Б—В–∞—А–Є–Ї—Г –Є –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г. –Ґ–Њ—В –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є
—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞—Е–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –®–µ–њ—З–µ—В:
-–Э–µ—В, –Љ–Њ–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А, —П –љ–µ –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤. –•–∞, - —Б–Љ–µ–µ—В—Б—П, - –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤ -
–љ–Є—З—В–Њ, –Љ–Є—Д, –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї, –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –ѓ –ґ–µ –≤–ї–∞—Б—В–µ–ї–Є–љ –Љ–Є—А–∞,
—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М.
-–Т—А–µ—И—М, - –њ–Њ—З—В–Є –Ї—А–Є—З–Є—В –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Є —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї–ї—О—З –Њ—В
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л.
-–І—В–Њ —В—Л –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї?
-–Э–µ —В–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ.
-–Я–Њ—Б—В–Њ–є, –Ї—Г–і–∞ —В—Л, - —Б—В–∞—А–Є–Ї –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П, –њ–∞–і–∞–µ—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ,
–њ–Њ–ї–Ј–µ—В –њ–Њ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–Љ—Г –њ–∞—А–Ї–µ—В—Г. - –Х–µ –љ–µ—В, —Б–ї—Л—И–Є—И—М, –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л.
–Х—Б—В—М —П! –ѓ, —П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А –≤—Б–µ–≥–Њ! - –Ї—А–Є—З–Є—В –≤–і–Њ–≥–Њ–љ–Ї—Г.
-–Я–ї–µ–≤–∞—В—М, - —И–µ–њ—З–µ—В –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, –њ—А—Л–≥–∞—П –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ —Б—В—Г–њ–µ–љ—П–Љ.
–Т–љ–Є–Ј—Г, –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –≤ —З–µ—А–љ—Л—Е –љ–Њ—З–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ—Г–ї–Ї–∞—Е –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В
–Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —В–µ–љ–Є. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –°–ї—Л—И–Є—В—Б—П
–Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–є —И–µ–њ–Њ—В, –њ–µ—А–µ—А—Г–≥–Є–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–Љ–µ—Е.
-–Ъ—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М? - —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ—А–Њ—В–љ–µ.
–Ъ–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –њ–∞—А–Њ—З–Ї–∞ —Б –≤–Є–Ј–≥–Њ–Љ —И–∞—А–∞—Е–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—З—М. –У–і–µ-—В–Њ, –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ
–њ—А—Л–≥–∞—П –њ–Њ –±—А—Г—Б—З–∞—В–Ї–µ, –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –њ—Г—Б—В–∞—П –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞ –Є–Ј-–њ–Њ–і —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ю–љ
–±–µ–ґ–Є—В –і–∞–ї—М—И–µ, –њ–Њ–і –∞—А–Ї—Г, –Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–≤ –Є —З–∞—Б–Њ–≤–µ–љ, –Ї—А–Є–≤—Л–Љ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ—Л–Љ
–Љ–∞—А—И—А—Г—В–Њ–Љ, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –°–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е, –≤
–Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Г–ґ–µ —З–µ—А–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.
–Ґ–∞–Љ, –Ј–∞ —Б—В–µ–љ–Њ–є, –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –∞–Љ–±–∞—А–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї. –Ґ–µ–Љ–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ
–∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ. –Ч–ї–Њ—Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ –≤–µ–Ї–Є, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ
–љ–µ –≤–Є–і–Є—В. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є–Ј —В—М–Љ—Л –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є
–Љ–∞—И–Є–љ—Л, –Є –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З —Б –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї –∞–Ї—Ж–Є–Є. –С–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Њ–≥–Њ
–С–Њ–≥ –±–µ—А–µ–ґ–µ—В, —И–µ–њ—З–µ—В –±—Л–≤—И–Є–є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, –≤—Л–і–µ—А–≥–Є–≤–∞—П —Б —А—Л—З–∞–≥–Њ–≤ –Љ–µ–і–љ—Л–µ
–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—З–Є–Ї–Є. –Ґ–µ —Б –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Љ –њ–∞–і–∞—О—В –љ–∞ –±–µ—В–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї,
—А–∞—Б–Ї–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П, –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—П –љ–∞ –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ–Љ –±—Г–≥—А–Є—Б—В–Њ–Љ —А–µ–ї—М–µ—Д–µ, –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞
–Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞—О—В –≤ —В–µ–Љ–љ—Л—Е –њ—А—П–Љ—Л—Е —Г–≥–ї–∞—Е –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–µ–њ–Є–њ–µ–і–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ
–Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, –≤—Л–Ї–ї—О—З–∞–µ—В —Е—А–Є–њ–ї—Г—О
—Б–њ–Є–і–Њ–ї—Г, —В—Г—И–Є—В –Ј–µ–ї–µ–љ—Г—О –ї–∞–Љ–њ—Г –Є, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л–є, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –≤–љ–Є–Ј –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л–є
–±—А—Г—Б—З–∞—В—Л–є –і–≤–Њ—А.
84
–Ш–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –Я—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Њ–љ
–њ—А–∞–≤. –Я—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—А—Г–і–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–њ—М—О –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є
–і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Њ–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М
–љ–∞–≤–µ—А—Е—Г. –Ш –і–µ–ї–Њ –љ–µ –≤ —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤, –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ
–њ—А–∞–≤–і–∞ –љ–µ –≤–µ—З–љ–∞, –њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–∞. –Ф–µ–ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ. –Х–Љ—Г,
–Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –µ–і–≤–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ–і—Г, —В—Г—В –ґ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П
–ґ–∞–ї—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т–µ–і—М –Њ–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–ї–∞–±–Њ–µ,
—Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М, –Љ—Г—З–Є—В—М—Б—П, –±—А–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞
–Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –Љ–Њ–ї, —Е–Њ—В—М —П –Є –њ—А–∞–≤, –∞ —В–Њ–ґ–µ —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П,
–±—А–Њ–і–Є–ї –≤ –њ–Њ—В–µ–Љ–Ї–∞—Е, –Љ–Њ–ї, –Є –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П-—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –∞ —В–∞–Ї, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ
—Б–ї—Г—З–∞–є, —В–Њ —Г–ґ, –≤–µ—А–љ–Њ, –ґ–Є–ї –±—Л, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ. –Р —В–Њ –µ—Й–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В, —З—В–Њ –Є –µ–Љ—Г
–њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є, –љ–∞ –њ—Г—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є, —Е–Њ—В—М —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ
–љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞. –Х—Б–ї–Є –Є —В–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї–Њ, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —А–∞—Б—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–µ—А–µ—В —Б–≤–Њ–Є
—Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –Є–Ј–≤–Є–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–∞ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М
–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, —Б–Ї–∞–ґ–µ—В, —Г –≤–∞—Б –Ј–і–µ—Б—М —П –Њ—И–Є–±–Ї—Г –љ–∞—И–µ–ї —П–Ї–Њ–±—Л, –∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П
—Н—В–Њ –љ–µ –Њ—И–Є–±–Ї–∞, –∞ —В–∞–Ї, –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞, –Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–µ –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ
–љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В.
–°–Њ–љ—П —Б–Є–і–µ–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤—Л–Љ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –і–∞–≤–љ–Є—И–љ–Є–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б
–Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—П —Б—В–∞—А—Л–µ –Є–і–µ–Є –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–ї–Є–њ
–Ї –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А—Г –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—П –Є –°–Њ–љ—О
–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤–љ–Є–Ј. –Ґ–∞–Љ, –≤–љ–Є–Ј—Г, –њ—А–Њ–њ–ї—Л–≤–∞–ї–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞, –љ–Њ–≤–∞—П,
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ–∞—П –Є –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –і–Њ –±–Њ–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞—П. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –µ–є –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞
–і–Њ –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–љ–∞—В—М –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В, –Њ—В–Ї—Г–і–∞, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ
–љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≥–ї—Г–њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В –љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Ї —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г. –Т–µ–і—М
–љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П, –љ–Є—З—В–Њ. –Ф–∞–ї—М—И–µ –±—Г–і–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ -
–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –°–Њ–љ—П –Ї—А–∞–µ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–∞. –Ю–љ —Б–∞–Љ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї—Б—П
–µ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –і–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–±—Л—Б—В—А–µ–µ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤
–†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–µ. –І—В–Њ –ґ–µ, –њ—Г—Б—В—М —Е–Њ—В—М —В–∞–Ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –њ–Њ–±—Л—Б—В—А–µ–µ –і–Њ–ї–µ—В–µ—В—М. –£ –љ–µ–µ
—В–∞–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї. –Э–µ—В, –ї—Г—З—И–µ –љ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, –Є–љ–∞—З–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В
—В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П –ґ–і–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П —Н—В–Њ—В –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —З–∞—Б. –Ю–љ–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞
–љ–∞ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї —И–µ–ї –Њ–љ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б–ї–∞–≤–µ –Є
–њ–Њ—З–µ—В—Г –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ, –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–µ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Ї –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞. –Ю–љ–∞ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ
—Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ. –Ю–љ–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–Њ–і–µ.
–°–љ–∞—З–∞–ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Б –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞
–і–Њ–ї–≥–Њ–µ, –Є–Ј–љ—Г—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, –љ–∞
–Њ–±—Й–µ–µ –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –µ–і–≤–∞ –Њ–љ–∞
–љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О, –Ї–∞–Ї —Г—Б–ї—Г–ґ–ї–Є–≤–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –љ–µ—О –і–≤–µ—А–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е
—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ъ–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —В—Г—В –ґ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є
–Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –љ–∞–Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г
–љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г. –Ш –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ —Б –љ–µ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –і–∞–ґ–µ
–њ—А–Є—П—В–љ–Њ, –Є –µ–є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–є –Њ–љ–∞ –≤ —В—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Б–∞–Љ–Њ–µ
–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ, –Є –Њ–љ–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ. –Э–Њ –љ–µ—В, –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–µ
–њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Э–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ф–∞–ґ–µ —Г –Ъ–∞—А–∞—Г–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є
–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –µ–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Љ–∞–љ–Ї—Г, –і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї–Њ–≤–Є–ї, –∞ –Є—Б—З–µ–Ј –љ–∞ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–Љ
–Є–Ј–ї–µ—В–µ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–Њ—З–Є.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–∞ –ї–µ—В–Є—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –≤ —Б–≤–Њ–є –ї—О–±–Є–Љ—Л–є —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ї—А–∞–є, –≤
—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ, –љ–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –≤–µ—З–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞
–њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є —В–∞–є–љ—Л, —П–≤–Є—В—Б—П —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –њ—А–Є—Г–Љ–љ–Њ–ґ–Є—В
–љ–Њ–≤—Л–µ. –Ґ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, —В–∞–Ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є
—Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –љ–Њ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —В–∞–Ї –ґ–µ. –Э—Г —З—В–Њ –ґ–µ, –Є —Г –љ–µ–µ –µ—Б—В—М —В–∞–є–љ–∞, –љ–µ
–њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є. –Ю–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—В
–Њ –љ–µ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–Є–і—П—В—Б—П –Њ–љ–Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј. –Ґ–∞–Љ, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ
–Њ–љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –љ–Є–Љ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Я—А–Њ—Б—В–Њ, –±–µ–Ј –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –ї–Є—И—М
–њ–Њ–і–∞—Б—В —А—Г–Ї—Г –і–∞ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –њ–∞—А—Г –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤. –Ш —А–∞–Ј–Њ–є–і—Г—В—Б—П –Њ–љ–Є
–љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ш –Њ–љ–∞, –љ–µ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, —Г–є–і–µ—В –њ—А–Њ—З—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Ж–µ–љ—В—А—Г,
–њ–Њ–і –∞—А–Ї—Г, –Ї –њ—Л–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г –Њ–Ї–љ—Г, –Ї –ґ–µ–ї—В—Л–Љ –≤—Л—Б–Њ—Е—И–Є–Љ —Ж–≤–µ—В–∞–Љ. –Р –Њ–љ?
–Ъ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞.
85
–Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є—О–ї—М—Б–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є –њ—А–Є —Б–ї–∞–±–Њ–Љ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ, —З—Г—В—М
–њ—А–Њ—Б–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ—В—А–µ, –≤–і–Њ–ї—М –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –ґ–µ–ї—В–µ—О—Й–µ–≥–Њ –њ—И–µ–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ
–њ–Њ–ї—П —И–∞–≥–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Ю—В–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–µ—В—Л–є, –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е
—И—В–Є–±–ї–µ—В–∞—Е, –≤ —В—А–Њ–є–Ї–µ, —Б –љ–∞—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –±–ї–µ—Б–Ї–∞ –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –≥–µ—А–Њ—П, –Њ–љ
–±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –≤–Њ—В –µ—Й–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Г
–љ–∞–Ј–∞–і –Њ–љ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —И–Њ—Д–µ—А–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Е–ї–Њ–њ–љ—Г–≤ –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г, –Љ–Њ–ї,
–њ—А–Њ–є–і—Г—Б—М –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ, –Є —Б—В—Г–њ–Є–ї –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞ –њ—Л–ї—М–љ—Л–є, —Г—Б—Л–њ–∞–љ–љ—Л–є –±–µ–ї—Л–Љ
–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—П–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–∞–Ї. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –ґ–µ –і–µ–ї–µ —И–µ–ї –Њ–љ –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б
—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –°–Њ–љ—П –Є–і—В–Є –≤ –†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–µ. –†—П–і–Њ–Љ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є
–≤—Л—Б–Њ—В–µ –±–µ–ї—Л–Љ–Є –≤–∞—В–љ—Л–Љ–Є –ї–µ–њ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є –ї–µ—В–µ–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞, —А–µ–Ј–Ї–Є–µ,
–Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤—Л–µ, –Ї–∞–Ї –Є—Е —А–Є—Б—Г—О—В —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є —Б—О—А—А–µ–∞–ї–Є—Б—В—Л. –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј
–њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є
—В–∞–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Ј–µ–Љ–ї—П –Є –љ–µ–±–Њ –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ
–Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П
—Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В: —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –і–∞–ї—М—И–µ? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –°–µ—А–≥–µ–є
–Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї –≤ –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П, –љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ
—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–Њ–Љ —З–µ–є-—В–Њ –љ–µ–Љ–Є–≥–∞—О—Й–Є–є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –І—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї,
–Њ—Й—Г—Й–∞–ї –њ–Њ—З—В–Є —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –љ–Њ –љ–µ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї—Б—П, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П —Н—В–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ
—Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –І–µ–њ—Г—Е–∞, –њ—А–Њ–є–і–µ—В, —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤. –≠—В–Њ—В –љ–Њ–≤—Л–є
–Љ–Є—А –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –њ–ї–Њ—Е. –Ш—Б—З–µ–Ј–ї–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П - –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Ч–∞—В–Њ –Є –Ї–Њ–ї—О—З–Є–є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–є
–ї–µ—Б –њ—А–Њ–њ–∞–ї, –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л –њ—В–Є—З—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ—В–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї–Њ—В–∞ –і–∞ –≥—Г—Б—В–Њ–є
–љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є —Е–≤–Њ–є–љ–Є–Ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –і–∞–ґ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –°–Њ–љ—О —Б–∞–Љ—Г
—Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, —В—Л—З–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ –±–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А–∞.
-–°–Љ–Њ—В—А–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –≥—Г—Б—В–Њ–є –ї–µ—Б.
–°–Њ–љ—П –µ—Й–µ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Љ–Њ–ї, –≤–Є–ґ—Г —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Є –і–∞–ґ–µ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П,
—Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М. –Э–Њ —Б–ї–∞–±–Њ, —З–µ—А–µ–Ј —Б–Є–ї—Г. –Т–Є–і–љ–Њ, –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –µ—Й–µ
—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–ї–∞–±–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–є –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–Њ—З–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б –љ–µ–є —Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М
–Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–∞, –Њ–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ —Б –Љ—П–≥–Ї–Њ–є
–љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: "–Ь–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П". –Ю–љ –ґ–µ –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї. –°–љ—П–ї
–љ–Њ–Љ–µ—А –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ "–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞", –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –µ–µ –Њ–і–љ—Г, –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞—П –≥–і–µ-—В–Њ
–і–љ—П–Љ–Є –Є –љ–Њ—З–∞–Љ–Є. –Я–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П —З–∞—Б–∞ –љ–∞ –і–≤–∞, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є–≤–µ—В—Л –Њ—В –І–Є—А–≤—П–Ї–Є–љ–∞,
—И—Г—В–Є–ї, —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї. –Э–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤
–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –њ–∞—Г–Ј–∞. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Є–≥ –Њ–љ –њ–Њ–љ—П–ї
- —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–µ —А–µ—И–Є—В—Б—П. –Ю–љ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ —Б—Г–µ—В–Є–ї—Б—П, –і–µ–ї–∞–ї –Є–Ј —Б–µ–±—П –Ј–∞–љ—П—В–Њ–≥–Њ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞—П –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–є–Љ–∞–ї—Б—П.
–°–Њ–љ—П –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –µ–Љ—Г –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:
-–Ь–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М —Г–ї–µ—В–µ–ї–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Т
–∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В—Г –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤–Њ, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М. –Ю–љ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞
—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї—Г, –Њ–љ–∞ - –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –µ–Љ—Г –і–µ–ї–∞–Љ. –Ш –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М
–Њ–љ —И–∞–≥–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–∞–Ї–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ, –ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Е–Њ–ї–Љ—Л, —Б
—В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –љ–µ—П—Б–љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ, –±—Г–і—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В
–Ј–∞ –љ–Є–Љ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М,
–Њ–љ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М, —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П —Б–µ–±—П —Б—В–Њ–ї—М
–≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М. –Э–Њ
–Ї—В–Њ? –Т–µ–і—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Я–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–µ. –Я–Њ –Ј–∞–±–Є—В–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤—Г—И–Ї–µ, –њ–Њ —З–µ—А–љ–Њ–Љ—Г
–њ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —Б—А—Г–±—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Њ–љ –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–ї –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є
–і–≤–Њ—А.
-–Т–Њ—В —В–µ–±–µ —А–∞–Ј! - –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞. - –Х—А–Њ–љ–Є–Љ?!
–Э–µ—В, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П. –Я—А–Є—З–µ–Љ –љ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ,
–Њ–±—В—А–µ–њ–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–±–ї—Г–і—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –≤ –≥—А—П–Ј–љ–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ —А—Г–±–Є—Й–µ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є
–њ–∞—А–∞–і–µ, —Б–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є, –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –Э–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Њ—В—Ж–∞, –Њ –љ–µ–Љ –Њ–љ –і–∞–ґ–µ
—Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М, –±–Њ–ї—М—И–µ –і–ї—П –љ–µ–µ. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞
–љ–∞–і –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞: –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –њ–Њ–±–µ—Б–Є—В—Б—П –Є –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г
—З—В–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –±—А–Њ—Б—П—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ–є–Љ–µ—В, —З—В–Њ –≤—Б–µ
–µ–Љ—Г —З—Г–ґ–Є–µ, –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ–і–љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П
–њ—А–Є–Љ–µ—В –Є –Њ–±–ї–∞—Б–Ї–∞–µ—В –ї—О–±–Є–Љ–Њ–µ –і–Є—В—П. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–µ –Ј—А—П –Њ–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –њ—А–Є –љ–µ–Љ.
–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г, –Љ–Њ–ї, —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—И—М—Б—П –Є —В—Л
–Њ–і–Є–љ-–Њ–і–Є–љ–µ—И–µ–љ–µ–Ї –Є –њ—А–Є–њ–Њ–ї–Ј–µ—И—М, –Ї–∞–Ї —Й–µ–љ–Њ–Ї, —Г—В–Ї–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Њ—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П.
-–Э–µ —Г–Ј–љ–∞–ї? - —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–µ–±—П –≤
—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. - –Ю–є, –∞ –Њ—А–і–µ–љ-—В–Њ, –Њ—А–і–µ–љ, –љ—Г —В–Њ—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ
–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П. - –Ю–љ–∞ –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–ї–∞—Б—М. - –Э–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—В, –Ј–∞–±—Л–ї, –Ј–∞–±—Л–ї –Ї–∞—А—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ
–і—Г—А–∞—З–Ї–∞. –Р —П-—В–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ —В–µ–±—П. –Ф–ґ–Њ–Ї–µ—А —В—Л –Љ–Њ–є —Е—Г–і–Њ—Й–∞–≤—Л–є, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —В—Л? –°
–ї—Г–љ—Л, —З—В–Њ –ї–Є, —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П? –Х—А–Њ–љ–Є–Љ!
-–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –Т–∞–ї—П, - –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ.
-–Т–Њ! –Ф–∞–ґ–µ –Є–Љ—П –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –Э—Г –і–∞–µ—И—М, –Х—А–Њ–љ–Є–Љ, - —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ –≤—Л—В–µ—А–ї–∞ —А—Г–Ї—Г –Њ
–≥—А—П–Ј–љ—Л–є –њ–Њ–і–Њ–ї. - –Э—Г, –і–∞–≤–∞–є –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–µ–Љ—Б—П. - –Я–Њ–і–Њ—И–ї–∞, –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї—Г. -
–Ф–∞ —В—Л —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–∞–ї. –ѓ –Є–Ј–і–∞–ї–Є —В–µ–±—П –њ–Њ —Д–Є–≥—Г—А–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, –∞ —Б–±–ї–Є–Ј–Є –±—Л
–љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–∞. –Ю—Е, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є, –љ–∞–і–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –ї–Є? - –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –і–∞–ґ–µ —З—Г—В—М
–њ–Њ–њ—П—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і. - –Ф–∞, –≤–Є–і–љ–Њ, –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ј–∞ —В–∞–Ї –љ–µ –і–∞—О—В. –Я–Њ—Б—В–Њ–є, –њ–Њ—Б—В–Њ–є, –∞
—З–µ–≥–Њ –ґ —В—Л —В—Г—В –≤ –†–∞–Ј–і–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ?
-–ѓ –Ї –≤–∞–Љ.
–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Є —Е–Њ—Е–Њ—В–љ—Г–ї–∞. –Э–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–Љ–µ—А–ї–∞,
–љ–∞–њ—А—П–≥–ї–∞—Б—М –Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–∞.
-–Ґ–∞–Ї —В—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А? - –Є –Ј–∞–ґ–∞–≤ —А–Њ—В, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г—В—М, –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞—Б—М
–љ–∞ —Б—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї–Њ–Ј–ї–Є–Ї, –≤—Л–і—Л—Е–∞—П: - –Ю–њ–Њ–Ј–і–∞–ї.
–Ш–Ј –і–Њ–Љ—Г –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї–Є –і–≤–∞ –±–Њ—Б–Њ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–њ–Њ–Ї—А–Њ—П. –Я–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –Є–Ј-–Ј–∞ –µ–µ —Б–њ–Є–љ—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Ї–Њ—А—З–Є—В—М —А–Њ–ґ–Є. –Т
—Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –°–µ—А–≥–µ—О –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З—Г –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г, –Є–Ј
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –љ–µ–Љ–Є–≥–∞—О—Й–Є–Љ
–≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ.
–Ю–њ–Њ–Ј–і–∞–ї. –І—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В - –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї, –Ї—В–Њ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї? –Ю–љ –Є–ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А? –Р—Е,
–Ї–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞, –Ї—В–Њ? –Т–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–њ–µ—И–Є–ї,
–±–µ–ґ–∞–ї, —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П –Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї.
-–Ь–∞–Љ–∞, - —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З.
-–Э–µ–і–µ–ї—О –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є, - —А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Л–і–∞–ї–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ —И–ї–µ–њ–љ—Г–ї–∞
–њ–Њ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї—Г –љ–µ –≤ –Љ–µ—А—Г —А–∞–Ј–±—Г—И–µ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Њ—А–≤–∞–љ—Ж–∞. - –Ш–і–Є—В–µ –≤ –і–Њ–Љ,
–±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ–µ.
–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Ј–∞–≤–µ–ї–∞ –і–µ—В–µ–є –≤ –і–Њ–Љ, –≤—Л—И–ї–∞, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–∞ –і–≤–µ—А—М,
–њ–Њ–і–њ–µ—А–µ–≤ –і–Њ—Б–Ї–Њ–є, –Є —Г–ґ–µ –≤ —Б–ї–µ–Ј–∞—Е –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –≥–Њ—Б—В—О.
-–Я–Њ–є–і–µ–Љ, –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г.
–Я–Њ–Ї–∞ —И–ї–Є, –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є—В–∞–ї–∞:
-–Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –ґ–і–∞–ї–∞ —В–µ–±—П! –Т—Б–µ –і–љ–Є –љ–∞–њ—А–Њ–ї–µ—В —Б–Є–і–µ–ї–∞ –≤ —Б–∞–і—Г –Є –ґ–і–∞–ї–∞.
–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Ј–∞ —З—В–Њ –ґ–µ –љ–∞ –љ–µ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –≥–Њ—А–µ? –Э–µ –і–∞–є –С–Њ–≥ —В–∞–Ї —Г–Љ–µ—А–µ—В—М –Ї–Њ–Љ—Г.
–С–µ–і–љ–µ–љ—М–Ї–∞—П, —В–∞–Ї–∞—П –±–µ–і–љ–µ–љ—М–Ї–∞—П. –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–µ –µ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Њ! –Ф–ї—П —З–µ–≥–Њ –ґ–Є–ї–∞? –Ч–∞—З–µ–Љ? –Э–Є
–і–Њ–Љ–∞, –љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є, –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—А–≥ –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З. –Ь—Г—З–Є–ї –µ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ, –Љ—Г—З–Є–ї,
–Љ—Г—З–Є–ї, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Њ—В —Б–∞–Љ –Љ—Г—З–∞–µ—В—Б—П. –°–Є–і–Є—В —Б —Г—В—А–∞ –і–Њ –љ–Њ—З–Є –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ, —Б–ї–µ–Ј—Л
–ї—М–µ—В, –і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є. –†–∞–љ—М—И–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ...
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –≤—Б—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–ї–∞–ї –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Є
—Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–∞–ї –Ј—Г–±–∞–Љ–Є.
-–Ы–∞–і–љ–Њ, –і–∞–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–є–і—Г. –Т–Њ–љ –љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Ї–µ —Б–Њ—Б–љ–∞, –Є–і–Є —Б–∞–Љ, - —А–µ–Ј–Ї–Њ
–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Є, –≤—Б—Е–ї–Є–њ—Л–≤–∞—П, –њ–Њ—И–ї–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ.
–Э–∞–і –Ї–Њ—Б–Њ–≥–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М. –І–Є—Б—В–Њ–µ, —В–Є—Е–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ,
—Г—В—Л–Ї–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—Ж–≤–µ—В—И–Є–Љ–Є —Д–∞–љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є, —А–∞—Б—Б–Њ—Е—И–Є–Љ–Є—Б—П –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–≤—И–Є–Љ–Є
–Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є. –С–µ–Ј –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, –Њ–±—Й–µ–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ.
–Э–∞ –Ї—А–∞—О, —Г —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Њ—Б–љ—Л, –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–≥–Њ–≤–∞—В—Л–є –±—Г–≥–Њ—А–Њ–Ї. –†—П–і–Њ–Љ
—Б–≤–µ–ґ–µ–≤—Л—Б—В—А—Г–≥–∞–љ–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є–≥—А—Г—И–µ—З–љ–∞—П, —Б–Ї–∞–Љ–µ–µ—З–Ї–∞. –Э–∞ –љ–µ–є —Б—В–∞—А—Л–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–Є–і–Є—В –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ, –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–≤ –ї—Л—Б–Њ–≤–∞—В—Л–є —З–µ—А–µ–њ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –°–ї–∞–±–Њ –≥—А–µ–µ—В
—Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –µ–ї–µ —Б–ї—Л—И–љ–Њ —И—Г—А—И–Є—В –њ–µ—З–µ–љ–∞—П –Ї–Њ—А–∞ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞.
-–°–∞–і–Є—Б—М, —Б—Л–љ–Њ–Ї, - –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П. - –Э–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞—И–µ–є –Љ–∞–Љ–Њ—З–Ї–Є,
–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–∞—Б, —Г—И–ї–∞. - –Э–∞–≥–Є–±–∞–µ—В—Б—П, –і–Њ—Б—В–∞–µ—В –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Є–Ј-–њ–Њ–і —Б–µ–±—П —З–µ–Ї—Г—И–Ї—Г –Є
–≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–є —Б—В–∞–Ї–∞–љ—З–Є–Ї, –љ–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В. - –Я–Њ–Љ—П–љ–µ–Љ —Б–≤—П—В—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г.
–Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤-–Љ–ї–∞–і—И–Є–є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б –љ–µ–Њ—Е–Њ—В–Њ–є –±–µ—А–µ—В —В–µ–њ–ї—Л–є —Б—В–∞–Ї–∞–љ –Є
—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–і—Л–≤–∞–µ—В. –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–њ–Є–≤–∞–µ—В.
-–≠—В–Њ —П –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, —П –њ–Њ–і–ї–µ—Ж, - –њ–ї–∞—З–µ—В –Њ–љ –Є –≤—Л—В–Є—А–∞–µ—В –≥—А—П–Ј–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є
–њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–µ–µ –љ–µ–±—А–Є—В–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ. - –Ь–љ–µ –±—Л –њ–Њ–і–Њ—Е–љ—Г—В—М, –≥–∞–і—Г. –°–ї—Л—И—М, –°–∞—И–Ї–∞, –Ј–∞—З–µ–Љ
—П –ґ–Є–≤—Г, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ? - –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –Ј–µ–Љ–ї–Є.
- –ѓ –±—Л –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–і–Њ—Е, –ї–Є—И—М –±—Л –±—Л—В—М —Б –љ–µ–є. –Ф–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –Љ–љ–µ –±—Л—В—М —Б
–љ–µ–є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ? –Ь–љ–µ, –њ–Њ–і–ї–µ—Ж—Г, —А—П–і–Њ–Љ —Б... –Љ–∞–Љ–Њ—З–Ї–Њ–є, - –њ–ї–∞—З–µ—В —Г–ґ–µ
–љ–∞–≤–Ј—А—Л–і, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ–µ –і–Є—В—П.
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –µ–ї–µ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є —В–∞–Ї. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А–Є–Ї –Ј–∞–њ—А–Є—З–Є—В–∞–ї,
–Њ–љ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В –Ї–Њ—А—П–≤–Њ–є —Б—Г—Е–Њ–є —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–Є —Б –і–∞—В–∞–Љ–Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –°—В–∞—А–Є–Ї –ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П.
-–Т–µ–і—М –Љ—Л —Б –љ–µ–є –њ–Њ–Љ–Є—А–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —В—А–Є –і–љ—П. –Ъ–∞–Ї —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –µ–µ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Њ–Љ,
–≤—Б–µ –њ–Њ–±–Њ–Ї—Г, —П –Ї –љ–µ–є. –Ю–љ–∞, –≤–µ—А–Є—И—М –ї–Є, –°–∞—И–Ї–∞, —В—Г—В –њ—А–Њ –Љ–µ–љ—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞.
–У–Њ–≤–Њ—А–Є—В: —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Љ–љ–µ, –Я–µ—В–µ–љ—М–Ї–∞, –њ–Њ–±—Г–і—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. –ѓ –ґ–µ —Б –љ–µ–є - –љ–Є —И–∞–≥—Г, –љ–Є
–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –≤–µ—А–Є—И—М –ї–Є, –љ–Є –≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –≤ —А–Њ—В. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ —А—Г—З–Ї—Г –≤—Б–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Є
–°–∞—И–Ї—Г –њ–Њ–і–ї–µ—Ж–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –≤–Є–і–µ—В—М. –ѓ –ґ–µ
–Љ–Є–љ—Г—В–Ї–Є –љ–µ —Г—Б–љ—Г–ї, –≤—Б–µ, –≤—Б–µ –і–µ–ї–∞–ї, –і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —П
–≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В. –Ю–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї–∞, –∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В. –Э–µ—В, –љ–µ —В—Л, - –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З—Г
–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б—Л–љ –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї —В–Њ–ґ–µ, - –љ–µ —В—Л, –і—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ —В–µ–±—П –љ–µ
—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞. –ѓ, —П –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–і–ї–µ–є—И–Є–є –Ј–≤–µ—А—М. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Љ–µ—А–ї–∞, –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–є –њ—А–Є–Ї—А—Л–ї,
–≥–ї—П–і—М, –∞ –њ—А–∞–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞ –µ–µ –ґ–Є–≤–∞—П –µ—Й–µ, —Б–Љ–Њ—В—А—О, —А–∞—Б–њ—А—П–Љ–ї—П–µ—В—Б—П, –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є —В–∞–Ї,
–Ј–љ–∞–µ—И—М, –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞, –∞ —В–∞–Љ, —В–∞–Љ, - –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, -
—В–∞–Љ —Г –љ–µ–µ —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ—З–µ–Ї, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –° —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–≤–Є–Ј–∞,
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —Б—Л–љ–Њ–Ї. - –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—З –ї–µ–Ј–µ—В –Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е—Г –Є –і–Њ—Б—В–∞–µ—В –љ–∞ —Б–≤–µ—В —Б–Ї–Њ–ї–Њ—В—Л–є
–љ–∞–Є—Б–Ї–Њ—Б–Њ–Ї –Ї—А–Є—Б—В–∞–ї–ї. - –Т–Њ—В, –≤–Є–і–Є—И—М, —Б –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ–Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –Є –Љ–љ–µ –љ–µ
–њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞, –ґ–∞–ї–µ–ї–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В. –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –ґ–µ —П, –њ–Њ–і–ї–µ—Ж, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, –≤—Б—О –µ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М
—А–∞–Ј–і—А–Њ–±–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Ї—Г—Б–Њ—З–Ї–Є. –Ъ—Г–і–∞ —В—Л? –°–∞—И–Ї–∞!
–°–µ—А–≥–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –≤—Б—В–∞–µ—В, —Б–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–µ—В —Б –ї–∞—Ж–Ї–∞–љ–∞ –Ј–≤–µ–Ј–і—Г –≥–µ—А–Њ—П, –Љ–Њ–ї—З–∞
–Ї–ї–∞–і–µ—В –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г, –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї –Њ—В—Ж—Г. –І—Г—В—М —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ—В, —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—П—Б—М,
–њ–Њ—В–Њ–Љ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П, –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ –Є, –љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞—П—Б—М, —Г—Е–Њ–і–Є—В.
–Ч–і–µ—Б—М, –љ–∞ —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–Є–љ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –Є –љ–µ–±–Њ–Љ. –Э–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –±–Њ–ї–µ–µ
—Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ, –љ–∞–≤–Ј—А—Л–і –њ–ї–∞—З–µ—В. –С–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б–ї–µ–і–Є—В—М,
–љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М, –Њ–і–Є–љ - –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П
–Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –µ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М
–Є–Ј –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –µ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ. –Э–Њ –≤–µ–і—М —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ
–±—Л—В—М! –Х–Љ—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–Ї–Њ —Б–µ–±—П. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—В—Г–њ–∞—П, –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–∞—П —Б–Є–љ—М –љ–µ–±–∞ –і–∞ —Н—В–Є –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Л. –≠—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ
–ї–Є—И—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –љ–µ–ґ–Є–≤—Л–µ, –±–µ—Б–њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є, –∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є,
—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–µ—З–µ–Љ –µ–Љ—Г —Б–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П –≤ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є
–Є—О–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М, –љ–µ –Њ—В –Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–µ –≥–Њ—А–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є –љ–µ
–њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В—Б—П. –≠–є, –њ–∞—А–µ–љ—М! –І–µ–≥–Њ –њ–ї–∞—З–µ—И—М, –°–µ—А–≥—Г–љ—П? –Ш–і–Є —Б—О–і–∞, –љ–Њ—Б –≤—Л—В—А—Г,
–Ј–∞ —Г—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞—О. –Т–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Љ–∞–Ј–∞–ї—Б—П, –±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ–Є–љ, –∞ —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ - –љ–µ
–ї–∞–Ј–∞–є –љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г. –£—З–µ–љ—М–µ —Б–≤–µ—В, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞, –і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—В–µ–Љ–µ–љ—М —В–Њ–ґ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞, –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –љ–Њ—З—М—О —Б–њ–∞—В—М? –Р —Н—В–Њ —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? –Ю–њ—П—В—М
–њ–Њ—Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї—Б—П. –Р—Е, –љ–µ–≥–Њ–і–љ–Є–Ї, –љ–µ—Г–ґ—В–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є –љ–µ—В—Г! –Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –µ–Љ—Г
–љ—Г–ґ–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Ї—А—Л–ґ–Њ–≤–љ–Є–Ї. –Э—Г –њ–Њ–≥–Њ–і–Є, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є, –≤–Њ—В —П –ї–∞–Ј-—В–Њ —В–≤–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є
–Ј–∞–Ї–Њ–ї–Њ—З—Г. –Э–µ —Е–Њ–і–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї –љ–Є–Љ, –Њ–љ–Є –ї—О–і–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ, –љ–∞–Љ
–љ–µ —А–Њ–≤–љ—П, –ґ–Є–≤–Є –љ–∞ —Н—В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ. –Ю–љ–Є –љ–∞—Б –≤—Б–µ –Њ–і–љ–Њ –љ–µ
–њ–Њ–ї—О–±—П—В. –°—Л–Љ–∞–є, —Б—Л–Љ–∞–є —А—Г–±–∞—Е—Г, –Њ–і–µ–љ—М –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї—Г—О, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≥–ї–∞–і–Є–ї–∞, –µ—Й–µ
—В–µ–њ–ї–∞—П. –≠—В–Њ —В–µ–њ–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ, —А–Њ–і–љ–Њ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞ —Г–≥–Њ–ї—М–Ї–∞—Е. –У–ї—П–љ—М, –≥–ї—П–љ—М,
–Ї–∞–Ї–Њ–є —Г—В—О–ґ–Њ–Ї –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–є, —И–Є–њ–Є—В, –њ–Њ—В—А–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–µ—В, –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є
—Б–≤–µ—В–Є—В—Б—П.
–°–µ—А–≥—Г–љ—П –љ–∞–њ—А—П–≥–∞–µ—В —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Љ–Њ—З–Є –≥–ї–∞–Ј–∞, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–Є—В. –°–≤–µ—В–ї–Њ,
–љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ. –Ф–µ–љ—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–ї–Њ—В–љ–µ–µ –ї–∞–і–Њ–љ—П–Љ–Є, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї
—З—Г–≥—Г–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–Ї—Г, –і—Г–µ—В —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ
–Љ–µ—Б—В–Њ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–Є –Є—Б–Ї–Њ—А–Ї–Є, –љ–Є –і—Л–Љ—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—Е–љ–∞—В–∞—П —З–µ—А–љ–∞—П —Б–∞–ґ–∞.
–Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П, –Ї—А—Г–ґ–Є—В—Б—П –±–∞–є—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є –ї–Њ—Е–Љ–Њ—В—М—П–Љ–Є, –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–Њ—Б, –≤ —Г—И–Є,
–Ј–∞–ї–µ–њ–ї—П–µ—В –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ —И–∞–ї–Њ–њ—Г—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–Ї–Є. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–ґ—Г! - –Ї—А–Є—З–Є—В –°–µ—А–≥–µ–є
–Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –≤–Њ –≤—Б–µ –≥–Њ—А–ї–Њ. –Ґ—А–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞ –њ—Л–ї—М–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–∞–≤–Њ–Љ, –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П,
–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б–µ–±—П.
–Ю–љ —Б—В–Њ–Є—В –Њ–і–Є–љ –≤ –Њ–≤—А–∞–≥–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–Љ –Є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ–є, –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Њ—А–µ–Љ –Є
–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –Є –љ–µ–±–Њ–Љ. –Ю–і–Є–љ? –Э–µ—В, –Ї—В–Њ-—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П.
–Х–Љ—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б—В—Л–і–љ–Њ –Є –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ. –Я–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ –Њ–љ —В–∞–Ї —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є–ї—Б—П, –Ї—В–Њ —В–∞–Љ
–µ—Й–µ –њ–Њ–і–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–Њ–Љ—Г –Њ–љ –µ—Й–µ –љ—Г–ґ–µ–љ? –°–њ–Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Э—Г–ґ–µ–љ? –Э—Г–ґ–µ–љ? –Ф–∞,
–њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, –≤–µ–і—М –љ–µ –Ј—А—П –Њ–љ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–Њ–Љ —З—Г–µ—В, –Ї–∞–Ї –±—Г—А–∞–≤–Є—В
–њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —З—Г–ґ–і–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Э—Г, –Ї—В–Њ —В—Л? - —И–µ–њ—З–µ—В –°–µ—А–≥–µ–є
–Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, —Б —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ, –∞ —Г–ґ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–Ї –±—Л —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є. –Ъ—В–Њ —В—Л –µ—Б—В—М?
–Ф—А—Г–≥ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї? –Ф—М—П–≤–Њ–ї, –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –С–Њ–≥, –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —З—Г–ґ–Њ–є
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї? –°–µ–є—З–∞—Б, —Б–µ–є—З–∞—Б, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є, –њ–Њ–є–Љ–∞—О –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ, –љ–µ —Г–±–µ–ґ–Є—И—М, –љ–µ
—Б–Ї—А–Њ–µ—И—М—Б—П. –Т–Њ—В –µ—Й–µ –Љ–Є–љ—Г—В–Ї—Г, –µ—Й–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Є–Ї, - –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л —Б
–Є—Б–њ—Г–≥–Њ–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї –љ–µ–±—Г –≥–ї–∞–Ј–∞, —И–µ–њ—З–µ—В: —Б–µ–є—З–∞—Б,
—Б–µ–є—З–∞—Б —П —В–µ–±—П –њ—А–Њ–≤–µ—А—О!
–Ю—В—В—Г–і–∞, —Б–Њ —Б—А–µ–і–Є–љ—Л –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–ї–∞, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —З–Є—Б—В—Л–є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є
–≤–Њ–Ј–і—Г—Е, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–љ–µ–µ –Ї—А–∞–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ј—Л–±–Ї–Є–Љ –Љ–∞—А–ї–µ–≤—Л–Љ –њ—П—В–љ—Л—И–Ї–Њ–Љ,
–±–∞–Ј–∞–ї—М—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –≥–ї—П–і–Є—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –Ы—Г–љ—Л.
1988-1990
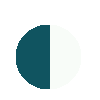
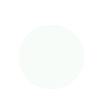
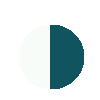
–І—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –Ф–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ
–Ї–ї—Г–±–µ?
|
- .... –Э–µ—В, –љ—Г –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П. –Ч–љ–∞—О, —З—В–Њ —В—Г—В –љ–µ –≤ —З–µ—Б—В–Є "—И—Г—В–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –µ—А–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ", —З—В–Њ "–Љ—Л—Б–ї–Є –Њ —Б—Г–і—М–±–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є" —В—А–µ–±—Г—О—В –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М –ї–Є—А—Г –љ–∞ –Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ї–∞–і, –љ–Њ –љ–∞–і–Њ –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М –њ–Є–љ–і–∞—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Л–ї –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В–µ–ї—П. –Э–µ—В... –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П... –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М "–±—А–µ–і–µ–љ—М" (—Г–і–∞—З–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —В—Г—В –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ, —Е–Њ—В—П, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –∞–≤—В–Њ—А –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —З–£–і–љ–Њ–є –њ–∞—А–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Б–Є–Є) —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є, —З—В–Њ–±—Л —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–Њ—В –≤ –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Њ? –Т —Б–∞–Љ—Л–µ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г—Б–Њ–±–Њ–є—З–Є–Ї–Њ–≤, –Љ—Л—И–Є–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–љ–Є –Є "—В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е" —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П –±–µ–Ј —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Б–µ–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –±—Л. –Э–∞—З–Є–љ–∞—О —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М :-)) –Ш—В–∞–Ї: "–Я–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є–Ї–Є, –і–∞ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т.–•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞" - –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—О —Б–µ–±–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –±—Г–і—Г—З–Є "–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ" –≤ —Б–Є–ї—Г —А–Њ–і–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —П –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б—В—Л–ґ—Г—Б—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Э–Х–Ґ, –Э–Х–Ш–Ч–Т–Х–°–Ґ–Э–Ђ –Ь–Э–Х –≠–Ґ–Ш –Я–†–Ю–Ш–Ч–Т–Х–Ф–Х–Э–Ш–ѓ. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л. –Ш –љ–µ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—В—Л–і–Є—В—М—Б—П. –¶–Є—В–Є—А—Г—О –і–∞–ї—М—И–µ: "–І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –≤ –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, - –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є —Б —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є". - –Ґ—Г—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞—Д–Ї–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–µ–ї–Є–≤–Є–љ–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О (—В—М—Д—Г) –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —В–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М —Б–µ–±–µ... –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–Њ –Њ—В–і–∞–µ—В —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –±–Њ–≥–∞—В–Њ–µ –≤—Л–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —А–Є—Б—Г–µ—В —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л... –Ш–і–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ: "–° –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ј–∞–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В–Њ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, - –Ї–∞–ґ–і—Л–є —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–є –њ—А–Њ–ї–Њ–Љ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ..." - –Ґ—Г—В —П –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О —А—Г–Ї–Є, –Љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—А–Ї–љ–µ—В —А—П–і–Њ–Љ —Б —Н—В–Є–Љ –±–∞—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Ї–∞—Б–Ї–∞–і–Њ–Љ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є, –Ї—В–Њ –Ї–Њ–≥–Њ —И—В—Г–Љ—Г–µ—В? –ѓ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є —А–Њ–Љ–∞–љ –Є–ї–Є –Њ–љ –Љ–µ–љ—П —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є? –Ш–ї–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –і–∞–ї—М—И–µ, —В–µ—А—П—П—Б—М –≤ "–і—Л–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞—Е" –Є –≤—Б—П —Н—В–∞ –±–∞—В–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞ - –ї–Є—И—М –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–Є —Б –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Њ–є —А–Њ–ї–µ–є? –Э–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ї—Г—Б - —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Љ–µ–ї–Њ... –Э—Г –і–∞ –С–Њ–≥ —Б –љ–Є–Љ, —Б–Њ –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ –°–ї—Г–і—Г—О—Й–∞—П —Ж–Є—В–∞—В–∞ –љ–∞ –≤—Л–±–Њ—А: "–†–Њ–Љ–∞–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ". - –≥—А–µ—И–µ–љ, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–µ —Б—К—П–Ј–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –≤—Б–µ–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї –Ї–Њ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –≥–µ–і–Њ–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П, –і–ї—П –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, —Н—В–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ... –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–љ–Њ. –Ф–∞–ї—М—И–µ: "–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—И—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–і –њ—Г—Е–ї—Л–Љ–Є —В–Њ–Љ–∞–Љ–Є –Ц—О–ї—П –Т–µ—А–љ–∞. –Т –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–љ–Є–≥–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–∞ —З–Є—В–∞—О—В –ї–Є—И—М –і–µ—В–Є –і–∞ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Є. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ - —А–Њ–Љ–∞–љ –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞..." - –Э–µ—В, (—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О —Г–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є –Њ–Ї—А–Є–Ї "–•–∞-–∞-–∞-–∞–Љ") –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤ –Љ–Њ–µ–є –Є–і–µ–µ –Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–µ –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ—Л —З—В–Њ-—В–Њ –±—Л–ї–Њ. –Т –і–µ—В—Б–≤–µ –≤–Њ—В–Њ –њ—Г—Е–ї—Л–є –Ц—О–ї–± –њ—А–µ–ї—М—Й–∞–ї, –∞ –љ–Њ–љ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–Њ–≥–Њ —Е–Њ—В—М –і–µ—В–Є —З–Є—В–∞—О—В, –∞ –≤–Њ—В –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ - –љ–Є –і–µ—В–Є, –љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Є –љ–µ —З–Є—В–∞—О—В. –Ф–∞–ї—М—И–µ —Ж–Є—В–Є—А—Г—О –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–≤: "–Э–µ—В, —Н—В–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –і–µ—И–µ–≤–Њ–µ "—А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Њ–≤–Њ" —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –ґ–∞–ґ–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Г–±–ї–∞–ґ–Є—В—М "–Љ–Є—А–∞ –≥—А–µ–Ј". –Ч–і–µ—Б—М, –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ, –µ—Б—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –µ–ї–µ —Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–љ–Є—П. –Ф–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї. –Я–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—И—М –љ–µ—З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –Њ–Ј–∞—А–µ–љ–Є—О, –љ–µ —Б–∞–Љ –њ—А–Њ—А—Л–≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –њ–Њ–є–Љ–µ—И—М —З—В–Њ-—В–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б—Г—В—М –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –©–µ–Ї–Њ—З–µ—В, –±—Г–і–Њ—А–∞–ґ–Є—В, –≤—Б–µ–ї—П–µ—В –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г, –≤–µ—А—Г, —З—В–Њ –Љ–Є—А –љ–µ —Б–≤–Њ–і–Є–Љ –Ї –∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞–Љ –Є –Ї –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Ж–≤–µ—В–∞–Љ". - –Э—Г —З–Є—Б—В–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–і–µ–ї–Є—П. –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В - –Њ–±–Ї—Г—А–Є–≤—И–Є—Б—М —В—А–∞–≤–Ї–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М. –Ю–љ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –±—Г–Љ–∞–≥—Г –Є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В. –£—В—А–Њ–Љ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–Є–µ :"–С–∞–љ–∞–љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –∞ —И–Ї—Г—А–Ї–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ" "–І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–љ—П—В—М —Н—В–Њ, –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї–µ—В–µ—В—М –Ї –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ —В—Г—В, –љ–µ —Б—Е–Њ–і—П —Б –Љ–µ—Б—В–∞". –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —З—В–µ–љ–Є—П —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Ф–ї—П –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –љ–µ—З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ". - –Р —П-—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П.... –Ш –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–Є–є, —П –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–ї–µ–љ–Є—В—М —Г–Љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М... "–І—Г–≤—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –±—Г–є—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є–Ї–Є —Б –Ї–∞—А—В–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є –Є —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є —Г—В—О–≥–∞–Љ–Є". "–Ф–∞–ґ–µ –Ш–Љ—П—А–µ–Ї (!!!) - –Є —В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є (—В—П–ґ–µ–ї–Њ —Г–±–Є–≤–∞—В—М –ї–Є—З–љ–Њ!)". - —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–љ–∞–Ї –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э—Г –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ —З—Г–і–љ–Њ–µ - —Н—В–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ :-) –Ґ—Г—В –љ–∞–і–Њ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –љ–Њ —П —Г–і–µ—А–ґ—Г—Б—М - –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—Б—В–Є. "–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –љ–µ–њ–µ—З–∞—В–љ–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞". :-))))) "–Э—Г —З—В–Њ –µ—Й–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З–µ–Љ –Ј–∞–≤–ї–µ—З—М? –Ъ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –Я–µ—В—А-I, –¶–Є–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –£–ї—М—П–љ–Њ–≤, –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –°–∞—Е–∞—А–Њ–≤, –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Ф–ґ—Г–≥–∞—И–≤–Є–ї–Є, –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж–Є–љ, –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤, –Я–∞—Б—В–µ—А–љ–∞–Ї, –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ, –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В—О–Ї, –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤-–©–µ–і—А–Є–љ, –Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Є–є, –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤, –І–µ—Е–Њ–≤, –Я–µ—И–Ї–Њ–≤, –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤, –У–∞–≥–∞—А–Є–љ... –≤–њ–µ—А–µ–і! –Т—Б–µ –Њ–љ–Є - –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–Є –Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є—В–µ–ї–Є –Є–і–µ–є - –Є–і–µ–є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е —Б—Г–і—М–±—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є" –Ґ–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±–µ (–њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ), –Ї–∞–Ї –°–∞—Е–∞—А–Њ–≤ –≤ –Њ–±–љ–Є–Љ–Ї—Г —Б –Ф–ґ—Г–≥–∞—И–≤–Є–ї–Є –Є –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Л–Љ, –Ј–Њ–≤—Г—В –≤–њ–µ—А–µ–і –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ, –љ–Њ —Г–ґ–µ –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ъ–Њ–і—А–∞—В—О–Ї–∞. –Р –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–µ –Ј–∞—Е–Њ–і—П—В —Б–њ—А–∞–≤–∞ –І–µ—Е–Њ–≤ —Б –£–ї—М—П–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Ш —Й—В—Г—А–Љ–Њ–≤–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –¶–Є–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–є—В–Є –≤ –Љ–Њ–Є –і—Л–Љ—П—Й–Є–µ—Б—П –Љ–Њ–Ј–≥–Є... –†–µ–±—П—В–∞, –љ—Г –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ???? –ѓ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±—Л—В—М –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ. I was trying, you know... I was trying real hard... –Э–Њ –љ–µ —Б–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Њ.
|
|
- –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ —Б –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–Њ–Љ –®–Љ–∞–ї—М–Ї–Њ! –Ґ—Г–њ–Њ—Б—В—М –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–∞—П –Є –≥—А–∞—Д–Њ–Љ–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Т—Б–µ —П—Б–љ–Њ - –Ј–∞–Ї–∞–Ј–љ–∞—П —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є—П, —А—Г–Ї–∞-—А—Г–Ї—Г –Љ–Њ–µ—В, –Ї–∞–Ї —П —Н—В–Њ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–ґ—Г. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Г–±–Є–≤–∞–µ—В —Н—В–Њ—В –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В—О–Ї. –Э–µ –Є–љ–∞—З–µ, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞, —З–Њ—А—В –Ј–љ–∞–µ—В —З—В–Њ, –љ–µ—В –±—Л –Ф–Њ–≤–ї–∞—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –Я–µ–ї–µ–≤–Є–љ... –≠—В–Є –Ї–Њ–љ–і—А–∞—В—О–Ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є, –ї–µ–Ј—Г—В –≤–Њ –≤—Б–µ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і—Л—А—Л - —В–Њ—И–љ–Њ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–∞—П —Б–≤–Њ–ї–Њ—З—М, –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л —Б—В—А–Њ–Є–ї, –∞ –Љ–µ—З—В–∞–ї –Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞—Е... –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П—Е –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї–∞ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ, –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Д–Њ–љ –С—А–∞—Г–љ–Њ–Љ, –љ–Њ —Н—В–Є –≤–µ–Ј–і–µ –њ—А–Њ–ї–µ–Ј—Г—В. –Ю–љ–Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Ы—Г–љ—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р—А–Љ—Б—В—А–Њ–љ–≥–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞–Ї–µ—В–µ... –Э–Њ–≥–Є –±—Л –њ–Њ–Њ—В—А—Л–≤–∞–ї, –Є –≤ –ї—Г–љ–Њ—Е–Њ–і. –Э–µ–і–Њ—Г–Љ–Ї–Є, –Ї –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ –ї–µ—В–∞—В—М –љ–∞–і—Г–Љ–∞–ї–Є, —А–∞—Б—В—А–µ–ї—П—В—М –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–ї–Є –≤ –ї–∞–≥–µ—А—М –Ї –Ф–Њ–≤–ї–∞—В–Њ–≤—Г, —В–Њ–ґ–µ –Љ–љ–µ, –Ї–Є–±–∞–ї—М—З–Є—З–Є... —З–Є-—З–Є, (–Ј–≤—Г—З–Є—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ).
|
| 222170 |
2000-05-07 19:58:30 |
| dk
|
|
- –Я–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–µ–і–Њ—З–Є—В–∞–ї, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –і–≤–Є–ґ–µ—В –Љ—Л—Б–ї—М. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ. –Р –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ–Є –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П, —В–Њ—З–љ–µ–µ –њ–Њ–і–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —П—А–Ї–Є–µ —З–µ—А—В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–µ. –Ф–∞ –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Ш–Љ—П—А–µ–Ї... —Е–Љ. –≠—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —З–µ–Љ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П. –•–Њ—З–µ—В—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г, –і–∞ –љ–µ—Г—В–µ—А–њ–µ–ї. –Ш–Љ—П—А–µ–Ї... –Ъ—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–љ–∞–µ—В, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–Ї? –Т–Њ–ї–≥–∞, –Ф–µ—Б–љ–∞, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Ф–љ–µ–њ—А???? –£—А–∞–ї - –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є–±–Њ —П–Є—Ж–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є. –Э–Є–≥–і–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї :(
|
|
- –Ю—В–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞.
|
| 231384 |
2001-07-28 12:32:44 |
| qwerty
|
|
- –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Э–µ—В–Њ—З–Ї–Є–љ - –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Э–Њ –µ—Й–µ –±—Г–і—Г –і–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М...
—Н—В–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–і –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ...
|
| 231385 |
2001-07-28 12:39:20 |
| qwerty
|
|
- –∞ –њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –∞–≤—В–Њ—А—Л –Ш—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤, –Ъ–Њ—А–љ–µ–є
–Є –њ—А. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П —В–∞–Ї.
|
- –Ъ–љ–Є–≥–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ, –∞ —П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –µ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ—Г—Б—В—П –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В. –Ф—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г–µ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞–Ј–∞–і –Є –≤ –Љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ.
–ѓ –њ–Њ–њ—Л—В–∞—О—Б—М –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –љ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А. –£–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Љ–љ–µ –њ—А–Њ–Ј—Г –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞, –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Є –Р. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –∞–≤—В–Њ—А —Б–њ–Њ—А–Є—В —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ—О –ї–Є–љ–Є—О –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –µ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ—Л –Є, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –±—Г–і—Г—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ—Л. –ѓ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї —А–Њ–Љ–∞–љ –љ–∞ вХЪ–Њ–і–љ–Њ–Љ –і—Л—Е–∞–љ–Є–ЄвХ© –Є –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї—В–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Л –≤ –∞–і—А–µ—Б —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞.
–•–Њ—З—Г –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л. –Э–∞—З–љ—Г –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –і–µ–ї–∞. –І—В–Њ –ґ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П? –Ъ—В–Њ –Є –≤ —З–µ–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Є –≤—Б–µ —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ? –Т–Њ—В —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б—З–Є—В–∞—О –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є.
–Р–≤—В–Њ—А —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–µ–і–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ, –Є –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –і–∞–ґ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞ —Г–ґ–µ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ. –Т–Њ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А - –і–Њ—Ж–µ–љ—В –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤. –Ь–љ–µ –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –і–∞–ґ–µ —Г—П–Ј–≤–Є–Љ—Л–Љ, —Е–Њ—В—П —П –ї–Є—З–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—А–µ–Ј–≥–ї–Є–≤–Њ –Њ—В–љ–Њ—И—Г—Б—М –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ. –Ю–љ –≤–µ–і—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є–≥—А–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ—О –Є–≥—А—Г –Є –≤—В—П–≥–Є–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –∞ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ. –≠—В–Њ —З–Є—Б—В–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П.
–ѓ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–ї. –Ю–љ –Є–Љ–µ–ї –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞, –Є –љ–∞ –њ—А–Є–µ–Љ –Ї –љ–µ–Љ—Г, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–Њ–ї–њ–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—О–і–µ–є. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і —В—Г–і–∞, –љ–∞ –њ—А–Є–µ–Љ –Ї –љ–µ–Љ—Г, –љ–∞ –і–≤–µ—А–Є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О —В–∞–±–ї–Є—З–Ї—Г. –Ю–љ–∞ –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ. –Э–∞ –љ–µ–є –њ–µ—З–∞—В–љ—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є –і–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ, –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–µ—З–∞—В–љ—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Є, –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ, –Ї–Њ—А—П–≤—Л–Љ –њ–Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ, –≤–Ї–Њ—Б—М, –Њ—В —А—Г–Ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–∞: –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ—Й–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–∞ —Н—В–∞ –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Њ—В —Ж–∞—А—П –Ф—Л–Љ–Ї–∞. –Ю–љ —Б–∞–Љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Є –і–≤–µ—А–Є –≥–Њ–і–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–і–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ —В–∞–Ї? –Ю—В–≤–µ—В –њ—А–Њ—Б—В - –≤—Л –Є–≥—А–∞–µ—В–µ —Г–ґ–µ –≤ –µ–≥–Њ –Є–≥—А—Г. –Т–µ–і—М –Њ–±—А–∞—В–Є–≤ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–∞–±–ї–Є—З–Ї—Г, –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–Є–≤ –њ–Њ—А–Њ–≥ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –≤—Л —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±—А–∞—В–Є—В–µ—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —З–µ—В–Ї–Њ - –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –ґ–µ –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –≤–∞—Б, –±—Г–і–µ—В –ї–Є—И—М —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ—Б–Љ–µ–Є–≤–∞—В—М—Б—П.
–Ъ–∞–Ї- —В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г, –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є, –њ—А–Є—И–ї–∞ –Љ–љ–µ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ —В–Њ —Б–∞–Љ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї—Г. –Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М? –Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–ї–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ–і —Г–і–Њ–±–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ, —П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —З—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ –Ї–ї–Њ—З–Ї–µ –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ–Њ—З—В–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –Є –Њ–љ –њ–µ—А–µ–∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—О. –Я–Њ–љ—П–ї –Њ–љ –≤—Б–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –љ–µ —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –У–Њ—А—Л–љ—Л—З—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤–∞. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ —Б—Л–≥—А–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞.
–Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –≥–і–µ –µ—Б—В—М –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –Є —А–∞—Б—З–µ—В, –Ј–і–µ—Б—М —П–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –У–Њ—А—Л–љ—Л—З –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–Љ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Њ–љ –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї, –∞ –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Ї–Њ—Б–Є–ї–Њ.
–Ь–љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г –Њ–љ –≤–і—А—Г–≥, –Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –∞ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї-–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ –Ї —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вХЪ –ѓ –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ –Ѓ–њ–Є—В–µ—А –≤ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В—Г—А–µвХ©. –°–Є—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Г –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М: вХЪ –Р —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –µ—Й–µ –Т–µ–≥–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л –≤ –Ј–µ–љ–Є—В–µ? –Р?вХ©. –Ш —В—Г—В, —З–Є—В–∞—П —А–Њ–Љ–∞–љ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–µ–і—М –љ–µ –Ј—А—П –У–Њ—А—Л–љ—Л—З–∞ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ы—Г–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –µ—Б—В—М —З—В–Њ-—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М? –Ъ–ї–Є–љ –Ї–ї–Є–љ–Њ–Љ –≤—Л–±–Є–≤–∞—О—В. –≠—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤–µ—Б—М —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≤ –ї–Њ–±, –Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Г–±–µ–і–Є—В—М –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤–∞. –ѓ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –Є–љ–∞—З–µ. –ѓ —Б–і–∞–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –∞ —В–∞–Љ –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А–Њ–≤ —Б–Є–і–µ–ї –Љ–Њ–ї—З–∞ –Є вХЪ–і—Г–Љ–∞–ївХ© –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –ї–Є –µ–Љ—Г —Б–≤–Њ—О –Є–≥—А—Г—И–Ї—Г –Є–ї–Є –љ–µ—В.
–Ъ—В–Њ –ґ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ј–ї–Њ–і–µ–є –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ? –≠—В–Њ –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З. –≠—В–Њ—В –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—Б—В—А–∞—И–љ–µ–є –С–∞–ї—М—В–∞–Ј–∞—А—Л—З–∞. –Я—А–∞–≤ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–Є—З, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –њ–Њ–≥—Г–±–Є–ї –µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є. –Т–µ–і—М –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ - –≤—Б–µ —В–Њ—В –ґ–µ –°–µ—А–µ–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В –Є–і–µ—О –Ш–ї—М–Є –Ш–ї—М–Є—З–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ. –Т—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є, —Е–Њ—В—П –Є –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ–є –Є–і–µ–Є. –Т. –•–ї—Г–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г —А–∞—Б–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–њ–Є—А–∞–ї—М –Ш. –Ш.. –Т —З–µ–Љ –µ–≥–Њ –±–µ–Ј–і–љ–∞? –С–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤—Б–µ —П—Б–љ–Њ. –Ь—Л—Б–ї—М –Њ вХЪ–Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ–Љ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ (–Я–Њ–љ—В–Є—П –Я–Є–ї–∞—В–∞) –њ–Њ—Е–Њ–ї–Њ–і–µ—В—М –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–њ–µ–Ї–µвХ©, - —Н—В–Њ —Г –Ь. –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞. –Ш. –Ш. –Ш—Й–µ—В –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—П, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –ї—О–±—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Т–Њ—В —В—Г—В –Є –њ–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Ї–∞. –С–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –љ–∞–і–Њ —Б –Ш–ї—М–Є—З–∞–Љ–Є. –Ґ—А–∞–≥–Є–Ї–Њ–Љ–Є–Ј–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л –Є—Б–њ–Њ–і–≤–Њ–ї—М –±–Њ—А–µ—В—Б—П —Б –љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤—Л–Љ–Є –Є–і–µ—П–Љ–Є. –Т. –•–ї—Г–Љ–Њ–≤, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ —А–µ—И–Є–ї —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –Є–і–µ–µ–є –і–µ—Н–Ї—Б–≥—Г–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ. –Э–Њ —Н—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–Є—А—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А—Г–≥–∞—П. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–∞–љ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞.
–Ш–Љ—П—А–µ–Ї –Є –С–Њ—И–Ї–∞. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л. –Т–Њ—В, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤—Л–≤–Њ–і—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–Є—Е —Б–ї–∞–±–Њ–≤–∞—В—Л. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г–µ—В –Э–µ—В–Њ—З–Ї–Є–љ–∞ –Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ—О —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г - –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –Ј–ї–Њ. –Я–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Э–µ—В–Њ—З–Ї–Є–љ–∞, —В–∞–Ї –Є –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞ —Н—В–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –љ–Њ –Њ–±–µ –Љ—Л—Б–ї–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –∞—Б–Є–Љ–њ—В–Њ—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –Њ–і–љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ вХЪ–Ї—А—Г—В–∞—ПвХ©, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П –Љ–µ–љ–µ–µ. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ. –Ш –і–∞–≤–љ–Њ. –≠—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–є—В–Є —Н—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–є—В–Є –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї –Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –µ–µ, —В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ–Њ–љ—П–ї. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В—Л - —Н—В–Њ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Л —В–Є—А–∞–љ–Њ—Г–±–Є–є—Ж. –У—А–µ—Ж–Є—П - –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –Є –≤–Њ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —В–Є—А–∞–љ–Њ—Г–±–Є–є—Ж—Г –љ–∞—И–µ–ї—Б—П —Б–≤–Њ–є –Я—А–∞–Ї—Б–Є—В–µ–ї—М. –≠—В–Њ –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–∞–ї–µ—А–µ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –Є –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –≥–∞–ї–µ—А–µ—П –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥–Њ–і–∞. –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г—В—М: вХЪ –Р –љ–µ –Ї–∞—А–±–Њ–љ–∞—А–Є–є –ї–Є –ѓ?вХ© - –ѓ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї.
–Э–Є—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Є —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–љ–∞ –Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Я—А–Є–≤–µ–і—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–є. –ѓ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї —Н–њ–Є–Ј–Њ–і —Б –∞–≤–∞—А–Є–µ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–∞. –Ґ–∞–Љ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–≥—Г—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Є —Б–≥—Г—Й–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –≤–Њ—В –њ–Њ —Е–Њ–і—Г —З—В–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –∞–≤–∞—А–Є—П —В–Њ –∞–≤–∞—А–Є–µ–є, –∞ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є –і–Є–Ї—В–Њ—А —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є вХЪ –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–ї—Г—Е–Є, —З—В–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –≥–Њ—А—П—В —Б–Ї–ї–∞–і—Л —Б—Г—И–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї—В—Г—Б–∞вХ© - –љ—Г —В–Њ—З–љ–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ –≤ вХЪ–Р—Н–ї–Є—В—ГвХ©. –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —Б–љ–Њ–≥—Б—И–Є–±–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –≥–µ—А–Њ–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –Њ—Б—П–Ј–∞–µ–Љ—Л.
–Р –≤–Њ—В –µ—Й–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —И—В—А–Є—Е. –£–ґ —П –Ј–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, –∞ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Т. –•–ї—Г–Љ–Њ–≤—Г —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ? –ѓ –њ—А–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ—Г. –ѓ –≤–Є–і–µ–ї —Н—В—Г –≤–Њ—А–Њ–љ—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–Є–Љ–Њ–є. –≠—В–Њ –±—Л–ї –≥–Њ–і –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –Ы—Г–љ—Л. –С–ї–Є–ґ–µ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ, —Г –Љ–µ–љ—П –≤—Л–њ–∞–і–∞–ї–∞ вХЪ–Љ–Є–љ—Г—В–Ї–∞вХ© –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞–Љ. –Т —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, —П —Г—В—А–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї –Ї —Ж–µ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—Г. –≠—В–Њ –љ–Є–ґ–µ –њ–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Г –Њ—В –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л. –У–ї—П–ґ—Г —В–Њ–ї–њ–∞. –Я–Њ–і—Е–Њ–ґ—Г –±–ї–Є–ґ–µ. –Ъ–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ–љ—Г –Є —Б –Њ–±–Є–і–Њ–є –ґ–∞–ї—Г–µ—В—Б—П –Њ–±—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –µ–≥–Њ –ї—О–і—П–Љ. –Ь–µ–љ—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є —З—Г—В–Ї–Њ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б—Л –ї—О–і–µ–є. –Ф–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –ѓ –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Н—В–Њ—В —Н–њ–Є–Ј–Њ–і, –і–∞ –≤–Њ—В –Ј–∞–±—Л–ї–Њ—Б—М.
–ѓ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —И–µ–ї —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –љ–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –≥–і–µ-—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В. –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –Т–Є–і–µ–ї —П –У–Њ—А—Л–љ—Л—З–∞. –Т–∞–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ? –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, —Н—В–Њ –ґ–µ —П - –Ш–≤–∞ –®–µ—Е—В–µ–љ–±–µ—А–≥, —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–є –∞–±–Є—В—Г—А–Є–µ–љ—В. –ѓ —В–∞–Љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –±—Л–ї!
–•–Њ—А–Њ—И–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ.
|
| 234202 |
2001-11-06 22:43:49 |
| Yuli
|
|
- –Ы—О–±–µ–Ј–љ–µ–є—И–Є–є –Ш.–®.!
–Ъ–∞–Ї –±—Л –Є –Љ–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ - –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ. –Т—Л –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ї–∞—А–љ–Є–Ј—Л, –≤–Њ–і–Њ—Б—В–Њ–Ї–Є, –њ–Њ—А—В–Є–Ї–Є –Є –∞–љ—В–Є–Ї–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤—Л—Е –≥–Њ—А–∞—Е —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л —Е–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є?
–Ю—В —Н—В–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є –њ–Њ—А–Њ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Г—О—В–љ–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –ґ–Є–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–∞—А–∞–Ї–∞–љ–Њ–≤ —Б —Е–Є–Љ—Д–∞–Ї–∞, —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б–µ—А–љ—Г—О –Ї–Є—Б–ї–Њ—В—Г, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–ї–Є, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ–≥–∞–ї–Є –±—Л—Б—В—А–µ–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ?
–Т–Њ —З—В–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —В—А—Г–і –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ —В—Л—Б—П—З –Ј–µ–Ї–Њ–≤, —Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Е —Н—В–Њ—В –і–Њ–Љ?
–Э–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Є—Е –і–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Ж–∞—А–∞–њ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —И–Ї–Њ–і–ї–Є–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–Є-–Њ—В—З–µ—Б—В–≤–∞, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–Ш –Т–∞—Б, –ї—О–±–µ–Ј–љ–µ–є—И–Є–є –Ш.–®. –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –љ–µ—В.
–Т—Б–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–Њ—Б—М –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤ –љ–µ–±—Л—В–Є–µ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—В–µ—А —Ж–∞—А–∞–њ–∞–µ—В –Њ—Б—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–Њ—З–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–ї—О —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Ї–Њ–ї—О—З–Є–Љ–Є –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є –±—Г–Ї–≤.
|
|
- –Ф–Ђ–Ь –Ъ–Р–Ъ –Ю–Я–†–Х–Ф–Х–Ы–Х–Э–Ш–Х –Ґ–Х–•–Э–Ю–Ъ–†–Р–Ґ–Ш–Ш
(–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –•–ї—Г–Љ–Њ–≤. –Ь–∞—Б—В–µ—А –і—Л–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж. –Ь., "–Ф–Є–∞–ї–Њ–≥", 2000.)
–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –љ–µ—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –Ш—Е –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Ї–Є–љ–µ—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ - –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є. –•–Њ—В—П –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —Б–Њ—В–љ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е: –®–∞–ї–Њ–њ—Г—В–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А (–Њ–љ –ґ–µ –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤, –Њ–љ –ґ–µ... –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї –Є–Љ–µ–љ –љ–Њ—Б–Є—В —Н—В–Њ—В –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ), - –љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –≤–∞–ґ–µ–љ –µ–≥–Њ –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В –®–љ–Є—В–Ї–µ? –Ш–ї–Є –Є—Е –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В –Ш–Љ—П—А–µ–Ї? –Ш–ї–Є –µ–≥–Њ –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В –С–Њ—И–Ї–∞? –Р –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З? –Р –µ–≥–Њ –і–Њ—З—М –°–Њ–љ—П? –Р –£—А—Б–∞, –ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В–∞–Ї–Є–Љ –≤—Л–≤–µ—А—В–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї–∞—Б—М –Љ–µ—З—В–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞-–¶–Є–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Є—Е –Њ–±–Њ–Є—Е –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤—Л—И–µ–њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤)?
–Т—Б–µ - –≥–µ—А–Њ–Є.
–Ш –≤—Б–µ - –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В—Л.
–Ф–∞, –Т–∞—А—Д–Њ–ї–Њ–Љ–µ–µ–≤-–°–µ—А–≥–µ–µ–≤-–У–Њ—А—Л–љ—Л—З, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤ –Є–і–µ–Є –£—З–Є—В–µ–ї—П-–Ш–ї—М–Є –Ш–ї—М–Є—З–∞, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –љ–Њ –Є –Љ–µ–љ—П–µ—В —Б—Г—В—М –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ –Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≤—Б—В–∞–≤—И–µ–Љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є—Ж–µ–љ—В—А–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –ї—Г—З—И–µ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П.
–Р –≤–µ–і—М –±—Л–ї–Є, –±—Л–ї–Є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є—П-–≥–µ–і–Њ–љ–Є—Б—В–∞. –Ш, –і—Г–Љ–∞—О, —Г –∞–≤—В–Њ—А–∞ —В–Њ–ґ–µ. –≠—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –њ–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–≤—Г–Љ —З–∞—Б—В—П–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є. –Ш –Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П? –Ю–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є, –≥—А–Њ–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤, –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В - –і–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ –£—З–Є—В–µ–ї—М –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П. –Ш —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ!
–Ш –≤—Б–µ-–≤—Б–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П.
–У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Њ–љ –љ–µ —Б–њ–Њ—А–Є—В —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –њ–ї–∞—В—П—В. –Ю–љ –і–µ–ї–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ - –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ –µ—Й–µ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –∞–≤—В–Њ—А—Г –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—В—М? –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –∞–≤—В–Њ—А-—В–Њ - –і–Њ–Ї—В–Њ—А —Д–Є–Ј–Љ–∞—В–љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –∞—Б—В—А–Њ—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –і–∞ –љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ... –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –µ–Љ—Г –љ–µ –±—Л—В—М —В–µ—Е–љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–Љ?
–Я–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—О –і–ї—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, —Г –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞-–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –µ—Б—В—М —Ж–µ–љ–љ–µ–є—И–µ–µ (–Є —А–µ–і—З–∞–є—И–µ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б) –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ: –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Є–і–Є—В –і—Г—И–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ, - –Њ–љ –љ–∞–і–µ–ї—П–µ—В –Є—Е —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є. –Р —Г–ґ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і–µ–ї–Є–ї - —Б–≤–Њ—П-—В–Њ –Є —А–≤–µ—В—Б—П –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –≤—Л—Е–Њ–і–∞. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М: –љ–µ—В –µ–≥–Њ, –≤—Л—Е–Њ–і–∞-—В–Њ. –£–ґ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞ –њ—Г—В–Є —В–µ—Е–љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є. –Э–∞—Г–Ї–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, –∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –њ—А–Њ—Й–µ - —Б—З–∞—Б—В—М—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ - –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —А–µ—И–Є—В, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–є –Њ–љ–∞ –≥–Є—В–Є–Ї. –Я–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ, —Е–Њ—В–µ–≤—И–Є–є —Б—В–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, —Г–Љ–µ–ї–Њ –њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –і—Л–Љ–∞ –њ—А–Є –Ї—Г—А–µ–љ–Є–Є. –Ф–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ.
–Ш —В–∞–Ї –ґ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А–Њ–Љ–∞–љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ, –љ–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В–Њ—З–Є–µ–Љ. –Ш —Н—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В. –Ъ–∞–Ї —Г—В—А–Њ —Г –®–∞–і—Г—А–љ–∞. –Ш –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –ґ–і–∞—В—М –≤–µ—З–µ—А–∞ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ - –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П.
–Р –µ—Й–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –µ–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ–љ–Є–Ї–µ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—Е–µ–Љ–µ –њ—П—В—Г—О —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞ (–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В –Є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞, –Є–љ–Њ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ). –Э–Њ –µ—Й–µ –Є –Њ —В–µ—Е –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–љ–Є–≥—Г "–Ь–∞—Б—В–µ—А –і—Л–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж" —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В.
"–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞–±–µ–≥ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П –љ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ –і–ї—П –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ч–∞—Б—В–∞–≤—Л. –≠—В–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±—Г–і–µ—В —В–µ–Љ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Њ–є–і–µ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ –і–љ—П –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б, –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ—Л—Е –Њ—Б–µ–љ–љ–Є—Е –і–љ–µ–є, —В–µ –Є–Ј –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ, –љ–µ—В-–љ–µ—В –і–∞ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Њ –љ–µ–Љ –њ–∞—А–Њ—З–Ї–Њ–є-–і—А—Г–≥–Њ–є –љ–µ—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–µ—А–і–Њ–±–Њ–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї —Б –њ–Њ–і–±–Є—В—Л–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ, —Г–≥–Њ—Й–∞–≤—И–Є–є –≥–Њ—Б—В—П —В–∞—А–∞–љ—М–Ї–Њ–є, —В–µ–њ–µ—А—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї —Г –њ–Є–≤–љ–Њ–є –±–Њ—З–Ї–Є —Б–≤–µ–ґ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –Ї–µ—Д–Є—А. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–Ј—М—П-–≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–µ —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —А–µ–і–Ї–Є–є –љ–∞–њ–Є—В–Њ–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Љ–µ—Б—М—О –і–µ–љ–∞—В—Г—А–∞—В–∞ —Б –Ї–Њ–Ј—М–Є–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ, —Б—В–∞—А–Є–Ї –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–Є—В, —В–Њ –њ—Г—Б—В—М —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В —Г –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–Є—З–∞..."
–Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤, –і–Њ–ґ–Є–≤–Є –Њ–љ –і–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є—Е –і–љ–µ–є –Є –Є–Љ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.
–†–Њ–Љ–∞–љ —З–Є—В–∞–µ—И—М —Б –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В, –љ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г (–Є –ґ–Є–Ј–љ—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л—Е –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є) –Њ–±–Њ–≥–∞—В–Є—В.
–ѓ –њ—А–Њ—З–µ–ї –Ї–љ–Є–≥—Г, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Г—О —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є.
|
|
- –Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –Ъ–Њ—И–Ї–∞ –Ъ–∞—В—П –Є –°–µ—А–≥–µ–є,
–Љ–Њ–Є —А–µ–њ–ї–Є–Ї–Є —Н—В–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і —Б—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е —Б–µ–±—П –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—И–Є—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–Є—Е –µ—С —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є—О. –•–Њ—З—Г –Т–∞—Б –Ј–∞–≤–µ—А–Є—В—М - —П –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ—Г –Ї –ї—О–і—П–Љ –і–µ–ї—П—Й–Є–Љ –Љ–Є—А –љ–∞ —З–µ—А–љ–Њ–µ –Є –±–µ–ї–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Т—Л —Г–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–µ –≤—Б—С —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ.
–•–Њ—З—Г –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М - —Б –Т–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –≤–µ—Б—В–Є –і–Є—Б—Б–Ї—Г—Б–Є—О!
p.s. –Ц–µ–ї–∞—О –≤—Б–µ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–µ!
|
|
- –Ъ–∞–Ї —Б–Њ–њ—А—П–≥–∞–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ? –Т–Њ—В –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –љ–∞–Ј–∞–і, —Б–∞–і—П—Б—М –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і, –≤–Ј—П–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є вХЪ–Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ –і—Л–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—ЖвХ©. –Я—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г –±–µ–Ј –Њ—В—А—Л–≤–∞. –Ш —В—Г—В –≤—Б—С –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М: –≥–Њ—А–Њ–і, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –њ–Њ–њ–∞–ї, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є (–Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є) —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –Х–≥–Њ –љ–µ—В –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–µ. –І—Г–і–љ—Л–µ, –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —З–Є—Б—В—Л–µ —Г–ї–Њ—З–Ї–Є –Є–Ј –і–≤—Г—Е, —З–µ—В—Л—А—С—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л—Е —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–Љ–њ–µ–Ј–љ—Л–µ (–љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Љ–њ–Є—А–∞) –Ф–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –Ґ–µ–∞—В—А, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –ї–Є—З–љ–Њ –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В–Є–є –Я–∞–ї—Л—З, –±–ї–µ–і–љ–Њ–≤–∞—В—Л–µ, –љ–Њ —Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ –Є —З –µ –≥ –Њ –љ –Є –≥ –і –µ –љ –µ —В!.. –Ґ.–µ. –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–і—А—Г–≥ –і–∞–љ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Є–є, –љ–µ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є –љ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –љ–Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є, –љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є, —В–∞–є–љ—Л–є –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ—Л–є –Љ–Є—А —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –≥–і–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б—Г–њ–µ—А–Љ–∞—А–Ї–µ—В–Њ–≤ –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ—Л, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —И–Њ–њ–∞ вХЪ–Ф–µ—Б—В–Ї–Є–є –Љ–Є—АвХ©, –∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П —Б–≤–µ–ґ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞: вХЪ–Ю–Ї–љ–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Є–Ї–∞вХ© —Б–Њ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є –њ—А–µ—Б–µ—З—С–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –Ј–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї —В–µ–Ї—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –У–і–µ –Є–Ј –Ї—А–∞–љ–Њ–≤ —Б –≤–Њ–і–Њ–є –Є—Б—В–µ–Ї–∞–µ—В —Б–µ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і, –≤—Б–µ —Б –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞—О—В—Б—П, –Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –≥ –Њ —Б —В –Є –љ –Є —Ж —Л. –Ф–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б–љ—П–ї —В–µ–∞—В—А, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–∞, –љ–Є —А–∞–і–Є–Њ. –Ч–∞—В–Њ –≤ —И–Ї–∞—Д—Г –ї–µ–ґ–∞–ї–Є вХЪ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—ПвХ© –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є: –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, –У—А–Њ–Љ—Л–Ї–Њ, —И–µ—Д—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞...
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є: —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є—А—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В.
|
|
- –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б—С —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ. –Ш –µ—Й—С, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, –∞ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Г –Т–∞—Б —Б—О–ґ–µ—В —Б –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Њ—А–Њ–љ–Њ–Љ? –У–Њ–і–∞ —В—А–Є –љ–∞–Ј–∞–і –Љ–Њ–є –њ—С—Б –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–њ–∞–ї —Б–ї—С—В–Ї–∞ –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ –Ј–∞ –Њ–њ–µ—А–љ—Л–Љ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ –±–µ–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є, –љ–Њ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Љ–µ–љ—П –Њ—В –њ–∞—А–Ї–∞ –і–Њ –і–Њ–Љ–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї–∞ –њ–∞—А–∞ —Г–Љ–љ—Л—Е –Є –Ј–ї—Л—Е –њ—В–Є—Ж. –Ю–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞ –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–∞–ї–Є —Б –≤–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –≤–µ—В–Ї—Г, –љ–Є–Ј–Ї–Њ-–љ–Є–Ј–Ї–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –њ–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є, —В–∞–Ї, —З—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–ї–µ—З–Њ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Њ—В –Є—Е –ґ—Г—В–Ї–Њ–≤–∞—В—Л—Е –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—П—Й–Є—Е –≥–ї–∞–Ј –Ї–Њ–і –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞. –Э–Њ –Њ–љ–Є –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ–Ї–љ–∞ –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Њ–Ї, –≤—Л—З–Є—Б–ї—П—П –Љ–Њ—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г.
|
| 245366 |
2002-06-09 19:43:07 |
| Yuli
|
|
- –£–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –Ф–Є–Љ–Є—В–∞—А!
–Ы–Є–љ–Ї –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В.
|
| 245372 |
2002-06-09 23:56:26 |
| –Т–Ь
|
|
- –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г!
–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ —В–µ–њ–ї—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Э–∞—Б—З–µ—В –≤–Њ—А–Њ–љ—Л... –Ь–µ–љ—П –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –≤–Њ—А–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥—А—Л–Ј–ї–∞ —Б—Г—Е–∞—А–Є–Ї, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Љ–∞–Ї–∞—П –µ–≥–Њ –≤ –ї—Г–ґ—Г.
|
- –Т.–Ы–Є–њ—Г–љ–Њ–≤—Г, –Т.–Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г
–Ь–Њ–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —Б–µ—В–µ–≤—Л–µ –і—А—Г–Ј—М—П! –Т–Њ—А–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–∞–Ї–∞—О—В –Ї–Њ—А–Њ—З–Ї–Є –≤ –ї—Г–ґ–Є –Є –Ј–∞–Ї—Г—Б—Л–≤–∞—О—В —П —З—Г—В—М –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –≤–Є–ґ—Г –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ (–Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Љ –Њ—И–Є–≤–∞—О—Б—М).–Ы–µ—В –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–∞–Ј–∞–і –±—Л–ї —Г –Љ–µ–љ—П —Б–ї—Г—З–∞–є. –Ц–Є–ї —П —В–Њ–≥–і–∞ —Г –†–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –≤ –Я–Є—В–µ—А–µ. –У—Г–ї—П–ї —А–∞–Ј –≤ —Б–∞–і—Г —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–ї–Є–љ–љ–Њ—И–µ—А—Б—В–љ–Њ–є —В–∞–Ї—Б–Њ–є –Х–≤–Њ–є (–Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ "–њ–Њ–Љ–µ—В–∞"). –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В: –Љ–Њ—П –њ—Б–Є–љ–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–≥–љ–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –≤—Л–њ–∞–≤—И–Є–Љ –Є–Ј –≥–љ–µ–Ј–і–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –≤–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Ї–Њ–Љ. –Ь–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ —Б–њ–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї—Г –Є... –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞—Б –Ї–ї–µ–≤–∞—В—М –Є –Ї–Њ–≥—В–Є—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–µ—А–≤–µ–љ–µ–ї–Њ. –Т —Н—В–Њ—В —Б–∞–і –±–Њ–ї—М—И–µ –Љ—Л –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–Є, –Є–±–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є–µ –≤–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Ї–∞ –≤ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ, –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—Б. –Т—Л –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ, –љ–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —П –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Њ—В –Љ–µ—В—А–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–∞–і—Г (–љ—Г, –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П), —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞–њ–∞–ї–Є –і–≤–µ —Г–≤–µ—Б–Є—Б—В—Л–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –њ—В–Є—Ж—Л. –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, —Н—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤–∞–Љ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Ф–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Љ–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ, –∞?
|
|
- –Ъ—А–µ–њ–Ї–Њ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Ї—А–Є–≤–Њ
—Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г—В—Б—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є "–Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ-–љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л
–њ–Њ–і–∞—З–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞" –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Т–ї. –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ - –•–ї—Г–Љ–Њ–≤ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
"–њ–Њ–Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї" —Г –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Д–Њ—А–Љ—Г –њ–Њ–і–∞—З–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —Д–∞–љ—В–∞—Б–Љ–∞–≥–Њ—А–Є–Є,
–љ–Њ –Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ –љ–∞–Љ–µ–Ї–љ—Г–ї —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ –Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –≤
—А–Њ–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞-–С–µ–Ј–і–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ3.
–Ь–Њ–≥—Г –і–∞–ґ–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ –±—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М
—Н—В–Є–Љ –љ–µ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ "—Д–∞–љ—В–∞—Б–Љ–∞–≥–Њ—А–Є—П" –Т–ї. –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–µ
–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –Ї "–С–µ–≥—Г", —З–µ–Љ –Ї "–Ь–∞—Б—В–µ—А—Г –Є –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–µ", –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–µ—З—М –Є–і–µ—В
–Њ–± –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є "—Б–љ–∞ –љ–∞—П–≤—Г", –Њ —З–µ–Љ –Т–ї. –•–ї—Г–і–Њ–≤ (–≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –Њ–њ–Є—Б–∞–ї—Б—П - –•–ї—Г–Љ–Њ–≤,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ) –њ—А—П–Љ–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞: "–°–Њ–љ –љ—Г–ґ–µ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Ї–∞–Ї
—Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Г–Ї–µ. –С–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—Е–љ–µ—В —В–µ–ї–Њ –Є –Љ–µ—А—В–≤–µ–µ—В –і—Г—И–∞. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ
–њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ, –≤–µ—А–љ–µ–µ, –љ–∞ —В–Њ–є –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є,
—А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—Й–µ–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Б–Њ–љ –Њ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ,
–і–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ –ї–Є –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Б–љ–∞ –Є–ї–Є –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ
–±–Њ–і—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П?"
–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В–µ—Б—М, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є, —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є: –Т–ї. –•–ї—Г–Љ–Њ–≤,
–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Ј–љ–∞–µ—В, –љ–Њ –µ—Й–µ –Є —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ
- –Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В —Д–∞–Ј—Л "–њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞"
—Б –µ–µ –∞–ї—М—Д–∞-—А–Є—В–Љ–∞–Љ–Є. –Ш, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Њ–љ - –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –Ї—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Н—В–Њ
—Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ (–±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–µ
—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ) –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Ш —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О
–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А—П–Љ—Л—Е –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—В—Б—Л–ї–Њ–Ї –Ї
–С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ
—А–µ—И–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ "—Б–≤–µ—А—Е–Ј–∞–і–∞—З–∞", –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б
—В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є.
–Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Б—Г–і–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–љ–µ—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –µ–≥–Њ —А–Њ–ї—М –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є
–і–Є–і–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є "—Б–≤–µ—А—Е–Ј–∞–і–∞—З–Є" –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Р –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Г—А–Њ–≤–љ–µ–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є,
–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ "–Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ –і—Л–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж" —Б –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞—Б—Б—Л
–і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞, –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є
—Б–≤–µ—А—Е–Ј–∞–і–∞—З–Є - –і–µ–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–µ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М,
–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–ї—О—В–∞ –Є–Ј –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П
–њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М - —Б–µ—А–Њ–≥–Њ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ—Л
–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤—Л–µ –Є–Ј–≤–Є–ї–Є–љ—Л... –Р –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Б–µ—А–Њ–µ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ...
|
- "–Р –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Б–µ—А–Њ–µ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ..."
–Э–∞—Б—З–µ—В —Б–µ—А–Њ–≥–Њ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞ - —Н—В–Њ –Ї –Ѓ–ї–Є—О –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З—Г. –Э–∞—И–µ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Д—Г—В–±–Њ–ї —Е–≤–∞—В–∞–µ—В.
|
- –С–∞—А–Ї–Њ–≤—Г
–£–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –Р–ї—М—Д—А–µ–і, –∞ –≤—Л, —З–∞—Б–Њ–Љ, –љ–µ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є "–Ъ–Є–µ–≤–ї—П–љ–Є–љ", –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Л–є –±–Њ–ї–µ–ї—М—Й–Є–Ї —Б–Њ —Б—В–∞–ґ–µ–Љ? –Х—Б–ї–Є –і–∞, —В–Њ (–Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ), –љ–Њ —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Л–є —В–µ–Љ–∞ –≤–∞–Љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –ї—Г—З—И–µ —Г–і–∞–µ—В—Б—П... –С–µ–Ј –Њ–±–Є–і.
|
- –Ю–±–Є–ґ–∞–µ—В–µ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –®–Є–љ—И–Є–љ.
...–Э—Г, –∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В –≤ –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї —Е–ї—Г–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–Љ–∞–љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А—Г —А–Њ–Љ–∞–љ–∞... –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–љ—В–∞–Љ.
–Ъ–∞–Ї –≤—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Л–є –±–Њ–ї–µ–ї—М—Й–Є–Ї –Ї–∞–Ї —П - –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —З–µ–њ—Г—Е–Њ–є? –Э–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї-—Б.
|
| 245988 |
2002-06-24 21:51:08 |
| –Т–Ь
|
|
- –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ "–Ъ–Є–µ–≤–ї—П–љ–Є–љ"
–£–≤—Л, –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ—Л–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П.
|
- –Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї, —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ "—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ" –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ї—О–±–Њ–Љ—Г —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Г –Є –ї—О–±–Є—В–µ–ї—О —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –С—Г–ї–Ї–∞–≥–Њ–≤–∞. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ –С–∞—А–Ї–Њ–≤–µ —П –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї. –Я–Њ–≤—В–Њ—А—П—О, –љ–∞–і –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ–Є –Є —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–Љ–µ—О—В—Б—П. –Э–∞–і–Њ–µ–ї–Њ. –І—В–Њ –ґ–µ —В—Г—В –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ?
–Т–∞–Љ –Њ–±–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤–∞—Б –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ —П –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г–ї? –Э—Г —З—В–Њ –ґ–µ, —Ж–Є—В–Є—А—Г–є—В–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –Є—Е –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –≤–∞—И–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є.–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤,—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Ї–∞–Ї —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—П —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞. –†–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—П –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ –љ–Є–ґ–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є.
|
|
- –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї, —Г–і–∞–ї—П–є—В–µ –≤–µ—Б—М –Љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В. –Э–Є–Ї—В–Њ, –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Д–Њ—А—Г–Љ–Њ–≤ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Л. –£–±—А–∞–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–∞ - —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –Є –і–∞–ґ–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї. –≠—В–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–є –њ–Њ–і–ї–Њ–≥. –Ш –≤–∞–Љ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –њ–Є—И—Г—Й–µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Є–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –ѓ —Г–ґ–µ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –Њ–± –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Н—В–Є–Ї–µ.
|
| 254639 |
2003-12-13 14:29:51 |
|
|
|
- -–Ґ—Г—В, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, - –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Ш–ї—М—П –Ш–ї—М–Є—З. - –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–і–µ—П —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. –Ю–љ–∞ –ґ–µ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П. –Ь—Л –ґ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞ –≤–і–Њ–ї—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є? –°–Њ–љ—П, –Ї–∞–Ї –ґ–µ –≤–і–Њ–ї—М-—В–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є?
-–І—В–Њ —В—Л –Є–Љ–µ–µ—И—М –≤ –≤–Є–і—Г? - —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—П —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ, –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –°–Њ–љ—П.
-–Э—Г –Ї–∞–Ї –ґ–µ, –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ - –Њ–љ–Є –ґ–µ —В–Њ–ґ–µ —В—А–µ–±—Г—О—В —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–∞–≤–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –∞ —В–Њ —З—В–Њ –ґ–µ —Н—В–Њ –Ј–∞ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П: —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –Ї—Г—З–Ї–∞ –ї—О–і–µ–є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –ґ–Є–≤—Л –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М –і–∞ —А—П–і–Є—В—М. –Р —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М-—В–Њ, –µ—Б—В—М –ї–Є –Ї–≤–Њ—А—Г–Љ, –Є –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–µ–Љ –Њ–± —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е, —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ –Є—Е –ї—О–і—М–Љ–Є –Ї–∞–Ї –±—Л –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А—В–∞, –∞ –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ. –Т–і—А—Г–≥ —Г –љ–Є—Е –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ? –Э–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ–Љ—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Ю—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–Є—Б–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–µ—В, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –≤—Б–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –ї–µ–њ–Є—В—М –Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М. –Р –≥–і–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є? –Х—Б—В—М –Њ–і–љ–∞ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П - –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П –≤–і–Њ–ї—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
-–≠—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П, –∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —В—А—Г–њ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, - –≤—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –°–Њ–љ—П –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А.
|
- "-–Р —З—В–Њ —Н—В–Њ —Г –≤–∞—Б –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–Є–є —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞.
-–Э–∞ –Ч–∞—П—З—М–µ–Љ?
-–Э—Г –і–∞, –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ, - –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –°–µ—А–≥–µ–µ–≤.
-–Ґ–∞–Љ–∞? - –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б—В–∞—А–Є–Ї, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї—Г –Љ–∞—З—В—Л, –љ–∞–≤–Є—Б—И—Г—О –љ–∞–і –њ—А–Њ–і–Љ–∞–≥–Њ–Љ.
-–Ф–∞.
-–≠—Б–Њ.
-–І–µ–≥–Њ?
-–≠—Б –Ю. –°–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –Ю–±—К–µ–Ї—В. –°–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —Б–њ—А–Њ—В—М –љ–Њ—А–≤–µ–≥–Њ–≤.
-–Я—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ–≥–Њ? - –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°–µ—А–≥–µ–µ–≤.
-–°–њ—А–Њ—В—М –љ–Њ—А–≤–µ–≥–Њ–≤. –І—В–Њ –ґ–µ —В—Л, –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ—Г—О –Ч–∞—Б—В–∞–≤—Г —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є? –Ф–∞ —В—Л –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є –Ї –љ–∞–Љ —Б—Е–Њ–і–Є, —В–∞–Љ –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –њ–Њ–і —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ –ї–µ–ґ–Є—В, –∞ –≤ –љ–µ–є –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤: –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –Ч–∞—Б—В–∞–≤—Г –і–ї—П –Њ—Б—В—А–∞—Б—В–Ї–Є –љ–Њ—А–≤–µ–≥–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ—З–µ–є –љ–µ—З–Є—Б—В–Є. –≠—В–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –ї–µ—В —В—А–Є—Б—В–∞ —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ –ї–µ–ґ–Є—В, –∞ –љ–Њ—А–≤–µ–≥–Є –≤—Б–µ –љ–µ –Є–і—Г—В, –љ–µ –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—В, –±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ–µ. –Т—Л—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ –ї–Є, –Ј—А—П –Љ—Л —В—Г—В –Ч–∞—Б—В–∞–≤—Г —З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є? –Ф–∞ –љ–µ—В, –љ–µ –Ј—А—П. –Ю–њ—П—В—М —Б–ї—Г—Е –њ—А–Њ—И–µ–ї, —З—В–Њ –љ–Њ—А–≤–µ–≥–Є –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і —Б–Њ —Б–≤–µ—В—Г —Б–ґ–Є—В—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П –Њ—Б—В—А–∞—Б—В–Ї–Є –≠—Б –Ю —Б—В—А–Њ—О—В. –Т–Њ—В –њ–Њ—Б—В—А–Њ—О—В, –њ–Њ–і–Є —Б—Г–љ—М—Б—П, –љ–Њ—А–≤–µ–≥ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–є. - –°—В–∞—А–Є–Ї –њ–Њ–Љ–∞—Е–∞–ї –Ї—Г–ї–∞–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є."
|
- –У–Њ—В–Њ–≤–∞ —З–Є—Б—В–∞—П —А—Г–±–∞—Е–∞.
–Т–Ј–і–Њ—Е–љ—Г, —Г–Љ–Њ—О—Б—М, –Ї—А–Њ—В–Ї–Є–є –≤–Є–і
–њ—А–Є–Љ—Г, —З—В–Њ–± —В–Є—Е–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М –С–∞—Е–∞,
–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–∞–Љ –Ј–Њ–≤—Г—Б—М –С–∞—Е—Л—В.
–Ґ—Л —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М - —З—В–Њ –Ј–∞ —Б–Ї—Г—З–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є!
–Э–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В –њ–Њ—Н—В,
—З—В–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ—Л—Е —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–Є–є
—Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–є –љ–µ—В.
|
- -–Т—Л, –і—П–і—М–Ї—Г, —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ—Н–љ?
-–Ь–∞—Б—В–µ—А —Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ –ї–Њ–≤–ї–µ —А—Л–±—Л –≤ –Љ—Г—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і–µ, - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ї—А–Є–≤–Њ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П.
–Ь–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞ –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ —В—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–Є—Ж–µ–њ—Б—Л –Є —В—Г—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –љ–µ—З—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ.
|
|
- –£–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З! –° —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—Б—М –Ї –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥ —Б –і–љ–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ц–µ–ї–∞—О –Т–∞–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, —Б–Є–ї –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ; –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ: –Љ–љ–Њ–≥–∞—П –Т–∞–Љ –ї–µ—В–∞!
|
-
–Т–∞—Г! –Р –µ—В–Њ —З–Њ –Ј–∞ вХЪ—И—Л—И—Н–ї-–Љ—Л—И—Н–ївХ©? –І—С –Ј–∞ —З—Г–≤–∞–Ї —Б —В—А–µ–Љ—П вХЪ—Е—НвХ©? (—Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–µ –њ–∞—И—Г—В)
–°–њ–∞—Б–Є–±–∞ –Ї–∞–љ–µ—И–љ, –≤—П–Ј—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П... –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї...
–Ь–Њ–і–µ—А–∞—В–Њ—А! –Ю—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Е—Г—З—М —Б—В—А–Њ—З–Ї—Г, –і—Г–ґ—Н —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є–ї–∞—Б—П... (–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Г–ґ–µ –њ–Є—И—Г)...
|
-
–•–ї—Г–Љ–Њ–≤! –Т–Њ—В —Е–Њ—В–µ–ї —З–Њ—В–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г–Љ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–µ–є—Б–∞—В—М, –і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —З—С—А—В–∞ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–Є—З–Њ –љ–µ–є–і—С—В...
–Ы–∞–і–љ–Њ, –њ–Њ-–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є, –љ–∞ –Њ—В–≤–ї–µ—З—С–љ–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л, —И–Њ–± —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М: —П —В–Њ–ґ –≤–Є–і–µ–ї –Ї–∞–Ї –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –≥—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Њ—А–µ—Е —Б–≤–µ—А—Е—Г –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞, –Є –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —А–∞—Й–µ–њ–ї—П–ї—Б—П, —В–Њ –Њ–љ–∞, –≤–Њ—А–Њ–љ–∞, –њ–Њ–і–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —В—Г–і–∞, –≥–і–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –љ–Њ—Б—П—В—Б—П... –ґ—А–∞—В—М-—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П...
–Х—Й—С –≤–Є–і–µ–ї –Ї–∞–Ї –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —И–µ–ї—Г–і–Є –≤ —Б—В–∞—О —Б–Њ–±—К—О—В—Б—П, –∞ —В–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –њ—А—С—В, –Є –і–∞–≤–∞–є –Ј—П–≤–Ї–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–і–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–±–µ–ї—П. –Ю–њ–∞—Б–љ—Л–µ —И–∞–≤–Ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–µ–є, –Љ–Њ–≥—Г—В –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–≥–Њ –ї—Л—Ж–∞—А—П –Ш–≤—Г –®–Њ–Ї–µ–љ–±–ї—О–Љ–∞ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Є—Ж–∞... –С–∞—А–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Є—Е –њ–Њ—Н—В - –•–µ—А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞ –Є–Љ –≤ —А—Г–Ї–Є, –і–ї—П –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П...
–Р –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ—Г—О —Д—Г—Д–µ–ї—М –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М... –®–Њ –і–µ–ї–∞—В—М? –®–њ–∞–ї–µ—А —Б –Ї—А–Є–≤—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Є—Е –і—Г—И–∞, –і—Г–ї–Њ–Љ - –Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і...
P.S. –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —В—Г—В —В–Њ–≤–∞—А–Є—Б—З –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї (–љ–∞ –≤—П–Ј–Є), –µ—Б–ї–Є —П —З–Њ—В–∞ –Є –њ–Њ–љ—П–ї, —В–Њ —В–∞–Љ –ґ–Є–ї —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А—Л–љ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б—С –Є –≤—Б–µ—Е –Ї —З–µ—А—В—П–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї, —В–∞–Ї –≤–Њ—В –Њ–љ —Г—З–Є–ї –≤–∞—Й–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є—Е (–љ–∞ –љ—Н–Њ—Б—Д–µ—А–µ) –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є–Љ... –љ—Г —В–Є–њ–Њ, —З–Њ—В–∞ вХЪ–°–∞–Љ –і—Г—А–∞–Ї!вХ©, –і–ї—П —В–µ—Е –Ї—В–Њ –љ–µ–і–Њ–≥–љ–∞–ї... –Э–∞—Б –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–љ—П—В...
|
-
–°–љ–Њ–≤–∞ вХЪ—Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В –ї–µ—В–µ–ї - –Ї–Њ–ї—С—Б–∞ —В–µ—А–ї–Є—Б—ПвХ©...
...–Ј—А—П —П –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤—С–ї, —В–њ–µ—А—М –љ–µ –Њ—В—Ж–µ–њ–Є—В—Б–∞... –љ—Г –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ —В–Њ —В—Г—В —З–µ–ї вХЪhhhвХ© —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В:
вХЪبيرى رمزيات منوعه للبلاك بيرى رمزيات بلاك بيري بنات صور من لستنى للبلاك بيرىвХ©,
—З—В–Њ –≤—А—Г—З–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–≤—С–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –•–ї—Г–Љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –≤—Б–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Љ–Є—А–∞, –љ–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –і–ї—П –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–Є –Ї–ї–∞–≤–Є—И —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–Њ–є, –њ—А–Њ—Б–Є—В –≤—Л—Б–ї–∞—В—М - –њ—А–Є–Љ–µ—В —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –њ–Њ—И–ї—С—В (–њ–Њ–і —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї—Г –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –љ–µ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–µ, —А–∞–±–Њ—В—Л).
|

Copyright (c) "–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В"









